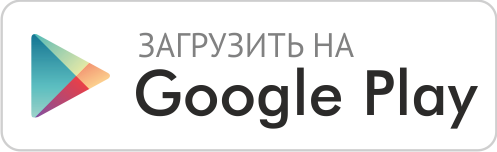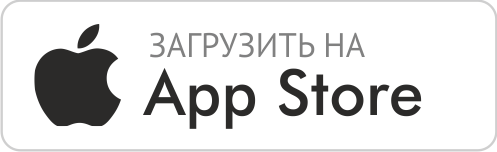Исходным пунктом евангельского учения о вечной жизни, как и других его отделов, служит ветхозаветно-иудейская терминология.
В ветхозаветном словоупотреблении жизнью называлась исключительно жизнь здешняя, земная, временная, видимая, чувственная. Различалась жизнь истинная и неистинная: истинная — это жизнь счастливая, благоденственная и долгоденственная. В понятие истинной жизни необходимо также включалась богоугодность, богообщение. Истинная жизнь приобретается человеком чрез исполнение закона, воли Божией: это есть жизнь праведная,— она составляет и награду и цель праведности. С книги Даниила религиозное мировоззрение иудеев обогащается эсхатологическим понятием вечной жизни 1), которое с этого времени остается неотъемлемым элементом иудейской религии. На библейском греческом языке, начиная с перевода LXX, понятие вечной жизни передается словами ζωὴαἰώνιος или просто ζωή,при чем βίοςупотребляется в применении к видимой животной жизни. В иудейском понятии вечной жизни прежде всего мыслится не бесконечность существования, а принадлежность жизни к будущему веку: вечная жизнь есть жизнь грядущего века, жизнь по воскресении. Эта грядущая жизнь представлялась иудеям, в чувственном виде.
В евангелии удерживается иудаистический термин вечной жизни (ζωὴαἰώνιος), как жизни грядущего века 2). В этом эсхатологическом смысле употребляются выражения «наследовать жизнь вечную» 3), «пойти в жизнь вечную» 4) или просто «войти в жизнь» 3) и даже — «жить» 4). Целый ряд представлений, ближе относящихся к воскресению и будущему блаженству, перешел в евангелие из иудейства, таковы—воскресение праведных (ἀνάστασις τῶν δικαίων) 5), пакибытие (παλινγενεσία) 6), трапеза в царстве небесном (τράπεξα ἐντῇ βασιλειᾳ) 7), возлежание с праотцами 8), равноангельство (ἰσάγγελοι) 9). Грядущей жизни и блаженству праведников противопоставляется погибель 10) или мучение грешников 11).
Однако евангелие не останавливается на иудейско-эсхатологическом понятии вечной жизни, не возвращаясь и к ветхозаветному реализму. В евангелии понятия истинной жизни и смерти прилагаются к настоящему времени, а реальная жизнь оценивается с точки зрения вечной жизни: это полагает не переступаемую грань между ветхозаветным, иудейским миросозерцанием и христианством. В евангелии вечная жизнь понимается духовно и в этом смысле вносится в пределы земного существования. Без благ вечной жизни земное бытие представляется в евангелии мертвым царством, а приобретение этих благ — переходом от смерти в жизнь. Когда Христос смотрел на похороны, Ему представлялось, что «мертвые погребают своих мертвецов» 12). О распутном сыне, вернувшемся в родительский дом, притча говорит: «он был мертв, и ожил» 13).
По евангелию, следовательно, жизнь не исчерпывается животным существованием и не ограничивается· загробною областью: и в пределах временного существования можно различать смерть, как жизнь в удалении от Бога, и истинную жизнь в общении с Отцом Небесным. И при видимой жизни можно быть или мертвым или живым,— истинная жизнь не совпадает с видимым существованием, хотя доступна человеку «во время сие». Особенно настойчиво понятие вечной жизни, как доступной условиям временного существования, раскрывается в четвертом евангелии. И здесь очевиден эсхатологический исходный пункт 14), но эсхатологическое понятие жизни в евангелии Иоанна решительно заслоняется духовным пониманием. Жизнь, которую дает Христос, истинная вечная жизнь делается достоянием верующих ныне 15). Равно и смертью здесь называется не «сон» физического умирания, а эта временная жизнь, поскольку в ней отсутствуют блага духовные. Воскресение «в последний день» 16) уступает место фактам видимого воскресения умерших, а эти факты евангельской истории служат символами духовного воскресения верующих. Слушающие Сына Божия и верующие в Него переходят от смерти в жизнь,— мертвые слушают Его голос и услышавшие из них оживают 17). Эта мысль более прямо и неприкровенно выражается в послании Иоанна: христиане переходят из смерти в жизнь, поскольку они усвояют божественную любовь, — не имеющие любви пребывают в смерти 18). При таком духовном понимании вечной жизни и ее эсхатологический характер приобретает иной смысл, чем в иудейских чаяниях. Вечная жизнь необходимо характеризуется признаком непрерывности, неуничтожимости, вечности, но это не вечность загробного существования, жизни в грядущем, веке, а вечность истинной жизни,— не та вечность, которая требует непрекращающегося века, бесконечного времени, а та вечность, которая может заключиться в один, момент времени, не измеряется временем, веками, вечность внутренняя, всецело данная в понятии абсолютного бытия. Отношение этой вечности к неизбежной физической смерти то, что истинная жизнь не затрагивается смертью, неуловима для нее, неуязвима 19). Смерть для обладающего вечною жизнью то же, что сон, видимость, не затрагивающая внутренней жизни. Если и признать ее смертью, то можно сказать, что имеющий вечную жизнь, хотя и умирает, оживает, но все же лучше сказать, что он не умирает 20).
Что же такое вечная жизнь в своем существе, — настоящая, подлинная, истинная жизнь, заслуживающая названия собственно жизни (ἡζωή)?
Прежде всего это есть божественная жизнь, Божия жизнь. Истинно, т. е. во всей полноте, в независимом блаженстве и в не иссякающей силе, живет один Бог 21). И вечная жизнь, как жизнь истинная сходит от Бога 22). Вечная жизнь, которая впервые дарована миру во Христе, в Его силе, в Его чувствах и делах, есть откровение, или явление, божественной жизни, Отчей жизни 23). На языке ветхого завета божественная жизнь называется духовною, или духом, а человеческая плотью, чем обозначается крепость и сила божественная в отличие от немощи человеческой. На этом языке говорит и Евангелие. Оно говорит не только о том, что у Бога есть дух, но оно говорит, что Бог есть дух 24). Дух есть начало животворящее, деятельное, плоть — начало немощи, бессилия 25). В ветхом завете божественный дух считался началом природно-исторической жизни и преимущественно ему приписывалось стихийное воодушевление. В евангелии божественно-духовное начало открывается в качестве абсолютной силы, небесной, неземной, решительно отличной от природно-исторического течения; даже воодушевленность стихийная здесь лишь символизирует небесную духовность. Вечная божественная жизнь есть жизнь духовная, божественно-духовная. Евангелие учит, что человек может, и в условиях временного существования, жить божественно-духовною жизнью, и это есть истинная и вечная жизнь человека 26).
Божественно-духовный характер вечной жизни бросает новый свет на христианскую эсхатологию, на что мы и должны указать, прежде чем входить в дальнейшее раскрытие понятия вечной жизни по ее содержанию. Евангелие одинаково далеко как от иудейского чувственного представления жизни по воскресении, так и от языческого спиритуалистического понятия бессмертия. По евангельскому учению истинная жизнь переступает порог смерти, но бессмертною оказывается не какая-нибудь часть человеческой природы — дух или душа в отличие от смертного тела, как это в языческо-философских верованиях, а божественная жизнь в человеке. Бессмертная духовная жизнь это—жизнь божественная. И хотя, вместе с тем, решительно отвергается чувственное понятие воскресения, свойственное иудейской религии, и грядущая жизнь называется ангелоподобной, чуждой земных интересов 1), тем не менее понятие духовной вечности отлично от языческого бессмертия и сочетается с идеей воскресения. Евангельское понятие вечности слагается из двух моментов—во-первых, победы над смертью силою божественно духовной жизни и, во-вторых, доступности божественно-духовной жизни человеку в условиях временного существования.
Божественное происхождение духовной жизни составляет один из тех пунктов христианского учения, которые решительно отвергаются эволюционной наукой. Между тем примирение религии и науки в этом пункте возможно. Природно-историческая эволюция подобна волнам океанским, ритм которых захватывает поверхность океана и не доходит до его глубины. Все, что выбрасывается в верхние волны из глубины океана, подхватывается ими, но не ими создается, не в них зарождается. Так и мировая жизнь глубже и содержательнее природно-исторической эволюции: из глубины жизни появляется все новое в природно-историческом движении, — и все новое в нем захватывается им, но не им порождается. Преимущественно же новизна духовной жизни, в которой человек отталкивается от земли к небу, окрыляется, приобретает характер неземной абсолютности, — выходит по своему началу из условных границ природно-исторической эволюции, поднимается из скрытой глубины мира, сходит от Бога, хотя, появляясь, уже по необходимости входит в поток видимой эволюции, облекается в природно-исторические законы. Наука и религия непримиримо расходятся лишь в том случае, если первая, перерождаясь в метафизику, ставит понятие эволюции на место жизни, из понятия хочет объяснить всю жизнь, и если вторая, погружаясь в туман гностицизма, переносит позитивно-логические представления в область тайны, хочет объяснить позитивным знанием всю тайну. Напротив, ни в сфере опыта, который свидетельствует о разнородных областях природно-исторической и абсолютно-духовной, во времени открывшейся, но не исчерпывающейся временем, ни с точки зрения религиозной тайны, которая скрывается за позитивною видимостью, конфликт религии и науки невозможен.
В чем же проявляется божественно-духовная жизнь в человеке, в каких реальных силах она обнаруживается?
Бог открывается в любви, в абсолютной любви 27). По ясному учению евангелия, одна любовь дает человеку богообщение, дарует ему вечную жизнь: истинно жить значит любить Бога и ближнего 28). Это учение выпукло и стройно раскрывается в послании Иоанна. Бог есть любовь 29), и потому пребывает в Боге тот, кто пребывает в любви 30). Бог есть любовь, и потому истинно живет тот, кто живет любовью 31). Вечная жизнь в любви. Так и апостол Павел учит, что первый плод божественного духа — любовь 32). Евангельская любовь есть любовь верующая, и потому вера, Божия вера, входит также в содержание духовной жизни: вечная жизнь принадлежит верующему 33).
Верующая любовь становится принципом всей широты человеческой деятельности, раскрываясь в новозаветном законе абсолютного действия и в богосыновней независимости от всего внешнего: новозаветная праведность образует также один из элементов духовной вечной жизни 34).
Любовь и вера дают человеку знание истины, которое составляет важнейший признак вечной жизни 35). Конечно, в этом случае разумеется не теоретическое, рассудочное знание, а опытное переживание божественной жизни, богообщение 36). Познание христианской истины делает человека свободным в отношении его ко всяким стихиям и внешним силам 37), а вера дает ему победную силу над миром 38).
Блага любви, веры, богообщения, богопознания, свободы — все эти блага обнимаются в понятии вечной жизни. Вечная жизнь доставляет людям несокрушимое блаженство, неисчерпаемую радость. Это — блаженство от полноты удовлетворения, от бьющей через край содержательности внутренней жизни, от всеобъемлющей осмысленности существования. Вода вечной жизни, принятая верующим, утоляет его жажду навсегда и становится в нем не иссякающим родником творческой производительности 39). Небесный хлеб духовного блага вполне насыщает душу 40). Благая весть христианской свободы выводит человека на неувядающую пажить избыточествующей жизни 41). Эта жизнь с избытком—абсолютная, беспредельная духовная жизнь. Живущий такою жизнью перестает быть простым человеком, он становится человеком с неба, Божиим человеком. Пред ним открывается перспектива безграничного совершенства 42), не убегающего от него в качестве отдаленного идеала, но реализующегося в окрыляющей его безграничной любви, которая никогда не прекращается, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносите. Вместе с бескорыстною любовью божественная абсолютность вселяется в самое сердце человеческое и наполняет его блаженным ощущением свободы и религиозного антропоцентризма. Это свобода от «суеты и заботы» о мно гом 43), от беспокойств о завтрашнем дне, от гложущей тревоги о том, что пить и что есть, во что одеться 44). Самоотвержение любви озаряется верою, что сынам Отца Небесного все возможно 45). В безграничной преданности «единому» и силою Божией веры избранные Отца Небесного освобождаются от раздвоенности и непоследовательности служения Богу и мамоне 46), от мучительных сомнений сердечных 47), от трусливой неуверенности: мир необъятного простора, мир неустрашимой веры вселяется в их сердце 48). Свобода вечной жизни—это, далее, свобода сынов Божиих от ига внешних обязанностей пультового и обрядового служения Богу 49), от рабской боязни осквернений, от принижающего и озлобляющего страха юридических счетов с Богом. На ветхозаветных временах тяжестью лежало сознание этической беспомощности человека, которому не было возможности быть чистым и праведным 50). Сын завета с боязнью озирался кругом, всюду видел нечистоту, со всех сторон стеснялся угнетающею оградою правил и предписаний, которая не защищала его от нечистоты и пресекала для него путь к спокойной совести. Мы еще слышим этот судорожный вопль подзаконного раба, который «делал то, что ненавидел» и не видел путей к «избавлению от смертного тела» 51). В новозаветном благовестии дано это избавление: ничто внешнее не может осквернить человека помимо его воли, никакие цепи не лежат на нем, никакой юридический суд с Богом не угрожает ему. В его руках находится средство все освятить в себе и кругом себя: освящающая все чистота исходит из его собственного сердца 52). Власть сынов Божиих простирается на самое небо: прощая других, человек приготовляет и себе несомненное прощение на небесах 53). Освобождаясь от тревожных будничных забот, от страха телесного, от власти стихий и от долгов пред Богом, мы выпутываемся из сетей искушения и избавляемся от силы зла 54).
Свобода безграничного простора вечной жизни не то же, что беспредельная пустота, и ее блаженство не расплывается в отрицательном благе невозмутимого покоя. Вечная жизнь имеет положительное содержание, и она дает положительное благо богопознания, богообщения, небесной радости. Евангельское боговедение есть знание, что Бог есть Отец. Если мы бросим взгляд на всю дохристианскую историю религии, как на историю постепенного освобождения людей от религиозного страха, то мы увидим, что только евангелие в образе Отца Небесного дает человеку самую высшую степень свободы от ужаса мировой тайны, не отрицательной свободы неверия, а свободы любви, которая не имеет страха. Свобода неверия ведет к одиночеству и самодовольству; она необходимо испытывает крушение. Напротив, свобода веры в отеческую любовь Бога поднимает падшее, воздвигает угнетенное, восстановляет уничиженное, дает силу ничтожному и бодрость немощному. Это — знание, закрытое от мудрых и открытое младенцам; это — утешение для уничиженных и обремененных; это — покой для кротких и смиренных сердцем; это — иго благое и бремя легкое 55). Евангелие — это радостная весть мытарям и грешникам, нищим и отверженным, всему потерянному, презренному, погибшему 56). Христианское блаженство опирается на сознание, что на небесах бывает радость об одном кающемся грешнике, что каждый раскаявшийся принимается Отцом Небесным с «жалостью, целованием и веселием» 57), что все малые и ничтожные имеют ангелов своих, предстоящих и ходатайствующих за них пред престолом Всевышнего, и что нет воли Отца Небесного, чтобы погиб хотя один из малых сих 58). Эта радость неба, эта небесная радость, наполняет и сердце человеческое в любви ко всем гонимым и угнетенным, в любви всепрощения, в бескорыстной любви ко врагам, ненавистникам и гонителям. Христианская радость не уединяет человека, но соединяет его неразрывными узами со всем миром, умиляет его душу пред всяким существом, делает для него милыми и травку полевую и резвую птичку 59). В такой любви, не знающей ни пределов ничтожества, ни границ греха, небесная радость вселяется в сердце человеческое: он любит и радуется по небесному. Чрез собственную радость любви боговедение становится для человека лицезрением. Бога, и здесь радость евангельская доходит до высшей степени блаженства 60). Его душа становится обителью непрерывного пребывания Бога, становится родною Ему, и от сознания этого радость его достигает полноты и совершенства 61).
Блаженство вечной жизни, блаженство царства Божия, есть, блаженство вечное, стоящее выше границ времени, доступное «ныне, во время сие», действительное блаженство. Во всем евангелии нет слова надежда. Вся проповедь Христа насыщена радостью, она — действительное евангелие, благая, радостная весть. Его время — радостное время брачного пира. Его ученики — участники брачного пиршества, которые не могут поститься 62). Его слова и дела делали блаженными всех слышавших и видевших: это были слова и дела, по которым от века томилось сердце человеческое 63).
Благо вечной духовной жизни представляется в евангелии не только действительным, но и величайшим, несравнимым по своей ценности ни с какими внешними благами. По ценности блага вечной жизни царство небесное уподобляется в евангелии сокровищу, скрытому на поле, которое нашедши человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то 58). Эта радость неба, эта небесная радость, наполняет и сердце человеческое в любви ко всем гонимым и угнетенным, в любви всепрощения, в бескорыстной любви ко врагам, ненавистникам и гонителям. Христианская радость не уединяет человека, но соединяет его неразрывными узами со всем миром, умиляет его душу пред всяким существом, делает для него милыми и травку полевую и резвую птичку 59). В такой любви, не знающей ни пределов ничтожества, ни границ греха, небесная радость вселяется в сердце человеческое: он любит и радуется по небесному. Чрез собственную радость любви боговедение становится для человека лицезрением. Бога, и здесь радость евангельская доходит до высшей степени блаженства 60). Его душа становится обителью непрерывного пребывания Бога, становится родною Ему, и от сознания этого радость его достигает полноты и совершенства 61).
Блаженство вечной жизни, блаженство царства Божия, есть, блаженство вечное, стоящее выше границ времени, доступное «ныне, во время сие», действительное блаженство. Во всем евангелии нет слова надежда. Вся проповедь Христа насыщена радостью, она — действительное евангелие, благая, радостная весть. Его время — радостное время брачного пира. Его ученики — участники брачного пиршества, которые не могут поститься 62). Его слова и дела делали блаженными всех слышавших и видевших: это были слова и дела, по которым от века томилось сердце человеческое 63).
Благо вечной духовной жизни представляется в евангелии не только действительным, но и величайшим, несравнимым по своей ценности ни с какими внешними благами. По ценности блага вечной жизни царство небесное уподобляется в евангелии сокровищу, скрытому на. поле, которое нашедши человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то, — уподобляется купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедши одну драгоценную жемчужину, пошел, и продал все, что имел, и купил ее 64). В этих притчах евангельское благо изображается искомым, тою целью, к которой люди стремятся: они не могут успокоиться до тех пор, пока не найдут его, не потому, чтобы заранее знали, чего ищут, а потому, что все, что они находят на земле, не удовлетворяет их алчбы и жажды. В других евангельских подобиях выставляется на вид эта неизвестность искомого, его новизна. С этой стороны положительное влечение к нему возможно только в том, кто его отведал. Вкусившего же духовных благ евангелие уподобляет человеку, отведавшему хорошего вина. Представлением хорошего вина нельзя увлечь того, кто не знает его вкуса; но отведавший лучшего вина не захочет тотчас худшего. Так и постигнувший благо вечной жизни теряет вкус к внешним благам 65). С другой стороны, эта потеря земных пристрастий сравнивается с погибелью телесных органов, чрез которые действуют на человека земные блага. Этим дается понять, что в руках человека есть отрицательное средство вызвать в себе алчбу и жажду духовную: это — отсечение соблазняющих органов, удаление земных привязанностей 66).
Блаженство духовной жизни не есть блаженство внешнее. Как жизнь вечная переступает границы времени, поскольку она и доступна условиям настоящего существования, и не уничтожается со смертью, не затрагивается ею; так и блаженство вечной жизни есть блаженство внутреннее, духовное, независимое от наличности внешних благ и достижимое среди телесных страданий и видимого уничижения. Неземная сила евангельского блаженства в том, что оно преодолевает внешние страдания, что оно есть блаженство нищих, алчущих, кротких, поносимых и гонимых 67). Блаженство вечной жизни не выражается даже собственно религиозными внешними благами, поскольку оно состоит не в радости учеников евангелия о чудотворной силе, а в радости их о том, что «имена их написаны на небесах» 68), во внутренней радости обладания духовною жизнью. В этом отношении божественность духовной жизни оказывается и психологическою духовностью, в современном смысле этого слова, т. е. это есть жизнь внутренняя, а не внешняя, телесная, видимая. Когда в евангелии идет речь о сокровище на небесах, о награде небесной или от Отца Небесного, то этим совместно выражается и божественная и внутренняя духовность вечной жизни.
Вечная духовная жизнь, рассматриваемая со стороны своего происхождения, является, подобно душевно-телесной жизни, даром Божиим, насаждением Отца Небесного 69), так что и духовно человек рождается. Но так как духовная жизнь есть новая жизнь, нарождающаяся в человеке уже живущем, и это есть именно жизнь божественная, или небесная, то ее нарождение называется новым рождением человека, возрождением, или рождением свыше, с неба, от Бога 70). Учение о духовном рождении Христос раскрыл в беседе с Никодимом, которому Он сказал: «если кто не родится снова, не родится свыше 71), тот не может увидеть царствия Божия». Когда Никодим усомнился в возможности человеку вновь родиться, Христос разъяснил ему, что это есть духовное рождение, которое обновляет человека, подобно тому как тело очищается водою 72) или, по другому сравнению, — огнем 73). Это учение о новом рождении не есть лишь достояние четвертого евангелия; оно свойственно и синоптикам, представляющим в этом случае замечательную параллель евангелию Иоанна. Мы разумеем известные слова Христа: «если не обратитесь (μὴστραφῆτε) и не будете как дети (γένησθεὡςτὰπαιδία — не сделаетесь новорожденными), то не войдете в царство небесное»
- Новое духовное рождение человека совершается незаметно для него. Как ветер дует, где хочет, и слышишь его, а не знаешь, из какого места он. вышел и куда уходит; так бывает со всяким духовно-рожденным.
- Это — чудный образ. Как физически рождающийся не замечает своего рождения, но видит себя уже родившимся; так и рожденный от духа не знает, с какого времени началась в нем новая жизнь, откуда веет его дух, но видит себя уже новым человеком, новорожденным. Новые мысли, новые чувства, новые желания. Человек прислушивается с радостью к своему духу, как мать прислушивается к нарождающейся в ней жизни.
- И снова — эти мысли не ограничиваются страницами четвертого евангелия; мы их встречаем и у синоптиков. Здесь царство Божие уподобляется брошенному в землю семени, при чем сама земля производит зелень, колос и зерно, а человек не знает, как семя растет, и не принимает в нем участия, пока не созреет плод и не настанет жатва.
- Когда созреет духовная жизнь, тогда она одновременно становится и заметною для человека и вместе уже не отразимою в своих требованиях. То и замечательно в духовной жизни, что она первоначально, по своей идее, кажется ничтожною сравнительно с другими душевными силами и совершенно незаметною, как зерно горчичное, которое «меньше всех семян»; и, однако, попав в сердце человеческое и вырастая здесь, она осиливает всю душевную жизнь, как зерно горчичное, вырастая, бывает больше всех злаков и становится деревом. Семя духовной жизни овладевает всею душою, перерождает и мысли, и чувства, и волю, обновляет все сердце, подобно закваске, от которой вскисает все тесто 74).
Это перерождение бывает настолько существенно, что, по разъяснению апостола Павла, возрожденный — духовный человек и не возрожденные — душевные люди уже перестают понимать друг друга, как будто говорят на разных языках 75). В силу того отношения духовной жизни к душевно-телесному бытию, по которому первая является новым ростком, а второе — средой для его развития, духовная жизнь называется семенем, которое бросают в почву и которое приносит плоды, при чем не только плодоношение бывает различно, сообразно индивидуальным особенностям почвы, но и судьба семени бывает разнообразна. В иных слово о царствии небесном встречает сознательное и упорное сопротивление. В других, принимающих его с поспешною радостью, оно искореняется скорбью или гонением. В ином оно заглушается будничными заботами и обольщением богатства. И только у некоторых сердце оказывается доброй почвой для слова и бывает плодоносно, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать 76).
Эта зависимость роста духовной жизни от сердечной почвы внушает мысль, что вечная жизнь, являясь с одной стороны даром Божиим, с другой стороны оказывается плодом нравственных усилий человека, по крайней мере в том смысле, что со стороны человека должны быть некоторые условия, при которых сердце его бывает доброй почвой для слова царствия.
Субъективные условия вечной жизни указаны в первых «блаженствах» по евангелию Матфея: это нищета духовная, плач, кротость, алчба и жажда правды. Это состояние наглядно изображено в притче о блудном сыне, который: в чужой стране, растратив наследство, впал в крайнюю нужду, испытывал голод и пришел к сознанию своего недостоинства пред небом и отцом. Но тогда-то отец и принимает его с нежностью и всепрощением. Голод и унижение блудного сына это — состояние, переживаемое человеком, пред сознанием которого открывается ничтожность мирской жизни, в котором нарождается жажда идеального мира, алчба высшей свободы и абсолютного творчества, то состояние, когда человека перестает удовлетворять мещанское счастье, внешнее благосостояние, сытое самодовольство, когда земля перестает быть для него родиной, становится для него чужою. Пока не народилось в сердце такое недовольство настоящим, такая неудовлетворенность земным счастьем, такая стесненность, до тех пор человек еще не подготовлен к слову о царствии Божием, к проповеди о вечной жизни. В отрицательных чертах состояния «не от мира сего», доступных ясному сознанию и открывающихся в остром переживании, скрывается положительная предрасположенность к небесному, предизбранность от Отца Небесного, таинственная излученность «от истины» 77). Поскольку последнее решительно не во власти человека и скорее предуказывает на то, что дается в возрождении, чем открывает данное от природы, для ясного сознания и действующей воли остается отталкивание от земли, познание суеты земной жизни и мимолетности ее благ. Это преимущественно и входит в понятие того «покаяния» (μετανοέω), которое стоит на пороге вечной жизни и призывом к которому началась евангельская проповедь 78), покаяния, не как раскаяния во грехах, а как общей перемены мирского настроения, привязанности к видимой жизни, на религиозное настроение, на порыв к небесной жизни.
Высота духовной жизни, в связи с условиями ее нарождения в человеке, открывает нам евангельский взгляд на внешние блага и формы мирской жизни — на ежедневные заботы, на богатство, на мирские занятия, на брак, государство и национальность.
На мирскую жизнь евангелие смотрит двояко — с естественной точки зрения и в отношении ее к вечной жизни. В естественном отношении физическая и мирская жизнь.
Составляет область воли Божией, как эта последняя проявляется в законах природы. С этой стороны она есть благо, но это благо внешнее, душевное, которое входит в сердце извне и не имеет нравственных свойств, не подлежит этической оценке. Здесь нет ничего нечистого, но ничего нет и святого. Этический облик естественная жизнь получает лишь с того момента, как она вступает в отношение к вечной жизни, к духовному благу. В отношение же к духовному благу мирская жизнь становится не сама по себе, не в своих внешних чертах, а чрез посредство человеческого сердца, которое является единственною ареною столкновения их. Привязанность человека к мирским благам, его довольство формами мирской жизни, его душевная самоудовлетворенность, встречаясь с призывом вечной жизни, приобретают отрицательное этическое значение, выступают препятствиями на пути в царство небесное и в этой мере оказываются злом. Отсюда евангельский аскетизм. Самое характерное для него в том, что он не имеет признаков природно — языческого или номистически-иудейского аскетизма. В иудаизме, как и в язычестве, аскетизм служил прямым средством богоугождения и богообщения, являлся «добрым делом», природною или внешнею этическою ценностью. Напротив, для евангелия, как нет природной нечистоты, так и нет природной или внешней этической ценности, аскетизм является этическою ценностью лишь условно, приобретает этический облик лишь в отношении к духовному благу, в качестве отрицательного условия духовного рождения. Самоотречение евангелием требуется только для вечной жизни, для духовного блага: это—исключительно самоотречение любви. И как только порывается «вязь природно-мирской жизни с требованиями любви и веры, с областью духовною, весь объем этой жизни освобождается от скорби аскетизма и покрывается розовым светом природно-общежительного благодушия. Евангельский Бог имеет два аспекта, являясь и Богом природных даров, естественного промысла, и Богом любви, требующей самоотречения, но евангелие не знает дуализма. Вот эта грань между двумя аспектами христианского, Бога и дуализмом отмечает путь, по которому идет проблема евангельского аскетизма, проблема глубочайшего интереса, но почти не поддающаяся популярному изложению. По поверхностному дуалистическому представлению, одно из природно-общественной области человеку разрешается, другое не разрешается, одни ее блага ему дозволяются, другие не дозволяются, пользование ею допускается до известного предела ее, до известной степени, так что и наслаждение дозволенным ничем не облагораживается и скорбь недозволенного ничем не смягчается. Дуалистический аскетизм неизбежно имеет темный оттенок. Напротив, по евангельскому учению все естественно-гуманитарное разрешается человеку, все естественные блага ему дозволяются, «все ему позволено», как говорит апостол 79), потому что все блага даруются единым Отцом Небесным, так что нет никакого естественного предела наслаждения ими, и в то же время от него требуется жертвовать во имя любви всяким благом без исключения, решительно «всем своим». От единого Отца Небесного и все блага, даруемые всякой живой душе, всякому человеку, от Него же и духовная жизнь, которая требует самоотречения до смерти, жертвы всяким благом. Радость жизни с природной стороны ничем не ограничивается, и вместе с тем жертва любви не знает никакого предела, потому что и благо от Бога и жертва для Него. Одновременно и жертвою, возможною или действительною, очищается всякое наслаждение, и природная цельность радостей жизни ничем не помрачается. Равным образом скорбь «тесных врат» 80) бесспорна и не знает никаких границ, включая даже отсечение соблазняющей руки и вырывание соблазняющего глаза, но при всем том это скорбь не только тайная, не видная для людей, не выразимая в природно-общежительных терминах 81), но и не беспросветная, так как она пронизывается внутренним блаженством абсолютного устремления, блаженством обретенной жемчужины 81). И хотя евангелие знает пост от печали 82), но оно не знает печали от поста и жертвы. Христианин отрекается от блага и жертвует им не потому, что оно есть зло, — всякое благо от Бога, и однако он не печален от жертвы, так как жертва его не от внешней заповеди, а от внутреннего абсолютного устремления, ради высшего блага. Реальный смысл двух аспектов Отца Небесного в том, что духовное совершенство дается человеку во внешнем уничижении и духовное блаженство во внешних страданиях, т. е. всякое видимое уничижение и всякие внешние страдания преодолеваются полнотой и блаженством вечной жизни. В этом последнее разрешение фактического дуализма природы и добра, хотя, может быть, этою логическою формулою не исчерпывается вся тайна, которая имеет последнее основание в том, что делом Сына вносится новое течение в царство природно-общественное.
Итак, одно дело — естественные блага и вседневные заботы без отношения к вечной жизни. Физическая радость, благо животного существования — это, прежде всего, несомненный факт естественной жизни. Жизнь — благо. Жизнь столь великое благо, что его не могут заменить никакие внешние ценности 83). Жизнь есть благо, и потому в жизни нужно видеть благость Отца Небесного, Который дает нам все необходимое для существования — пищу и одежду. Это — природная благость Отца Небесного, покрывающая все живое и чувствующее, не исключая и человека, который лучше всего в природе. Птицы ни сеют, ни жнут, их питает Отец Небесный. Полевые лилии не трудятся и не прядут: их великолепно одевает Бог. Но человек лучше и птиц и лилий, и Отец Небесный знает об его нужде 84). Ни одна птичка не погибает без воли Промысла, а у человека и волосы на голове сочтены 85). Поэтому вполне возможно обращаться к Богу с молитвой даже о ежедневном пропитании 86). Если жизнь есть благо и Сам Бог подает средства к жизни, то является вполне естественною и законною радость жизни. Сам Христос фарисеям, представителям номистической аскетики, казался «человеком, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» 87). Согласно с преданием мы представляем Христа в светлой одежде, тщательно изготовленной нежными руками любящей матери. Его чудеса были благотворениями и распространяли кругом Него радость, гнали прочь болезни и печали, на всех бросали отсвет «благоприятного лета». Сюда примыкают и заповеди Христа о милостыне и благотворениях: Он заповедует кормить алчущих, поить жаждущих, одевать нагих, посещать больных и заключенных 88), и обещает награду даже за чашу холодной воды, поданную ученику Его 89). Несомненность естественного блага жизни вместе с уверенностью, что человеческая жизнь лучше всякой животной жизни, дает добру первое содержание 90). Блага физической жизни и человеческого общежития берутся в евангелии символом духовных благ вечной жизни, таковы преимущественно образы света и пиршества, особенно брачного 91).
Но в ином освещении являются внешние блага, когда: они вступают в действительное отношение к благам вечной жизни, к благам царства небесного. Вечная жизнь необходимо и существенно требует самоотречения даже до смерти и самое меньшее — аскетизма, т. е. отречения от внешних благ жизни. Уже в самом понятии христианской любви, в ее абсолютности, заключается момент внешней безграничности и независимости от всяких оков внешнего блага. Евангельская божественная любовь должна возноситься над всякою земною привязанностью, должна преодолевать всякую внешнюю скованность, — она требует, чтобы крылья духа были совершенно свободны и беспрепятственно возносили его к небу. Эта интимная абсолютность и внутренняя свобода приобретают конкретные черты. воздержания и отречения при столкновении с фактическими страданиями и наличным злом, господствующими в мире. Если христианину заповедано любить ближнего как самого себя, если евангельская любовь всякому просящему дает и от каждого хотящего занять не отвращается, то она необходимо соединяется с самоограничением, с урезыванием личного благосостояния на пользу ближнего. Каждый нуждающийся, каждый нищий и увечный несет христианину ущерб личного благосостояния, ставит его на путь «тесных врат». Наслаждение природными благами естественно и само по себе не греховно, но вблизи нищеты оно невольно теряет черты невинного благодушия. Пиршество богача, у врат которого валялся нищий, питаясь крошками с его трапезы, рисуется на страницах евангелия темными красками. Пир с друзьями, братьями, родственниками и богатыми соседями невозможен и отвратителен для христианина, которого окружают нищие, увечные, хромые, слепые 92). Наконец, необходимость самоотречения для христианина порождается гонением мира, его ненавистью к учению Христа. Ученик евангелия должен ждать себе всего от этой ненависти, даже до смерти 93).
В этом отношении к вечной жизни внешние блага не имеют никакого положительного значения и, напротив, получают отрицательное значение с двух сторон. Помимо решительного отсутствия небесной искры, помимо той теплохладности, которая совершенно лишена этической энергии и составляет подлинную область лукавого 94), слово Божие заглушается в сердце человеческом или непостоянством и соблазном скорби или заботами века сего и обольщением богатства 95). Неимение в себе корня и непостоянство производятся заботою о завтрашнем дне, трусливым беспокойством о том, что пить, есть и во что одеться. Вседневная забота вполне естественна и законна для человека, но это законность природная и естественность, свойственная язычникам 96), от которой необходимо освободиться, чтобы войти в царство Божие. Она естественна для язычника и не греховна с природной точки зрения; но, когда она встречается с словом царствия Божия, она становится греховною. Она сковывает человека по рукам и ногам, тяжестью висит на его душе, мешает ему подняться над землею. Трусливая забота о завтрашнем дне преграждает ему путь к самоотречению любви, мешает ему устремиться к небу, делает его неспособным к борьбе с мирскою неправдою. Поэтому евангелие требует свободы от вседневных забот и от страха пред убивающими тело. Мы уже знаем, что евангельская беззаботность дается самоотречением. Самая молитва к Отцу Небесному о хлебе опирается на самоотречение, так как христианин молится лишь о хлебе ежедневном 97), не заботясь о завтрашнем дне 98).
Если страх телесных страданий и трусливая вседневная забота не допускают человека до дверей царства Божия, то тоже действие производится и обольщением богатства. Достаток и изобилие имеют неисчислимые благотворные последствия в утилитарном отношении, в деле культурного прогресса. Развитие науки и искусства, расцвет промышленности и торговли — все это возможно только при богатстве. И все это — несомненное естественное благо. Но евангелие судит о богатстве лишь в одном отношении его к вечной жизни. Богатство есть избыток естественных благ. Оно отрицательно относится к вечной жизни в той мере, в какой оно увлекает сердце, наполняет его. Оно дает человеку довольство, самодовольство, и тем самым делает его неспособным к вечной жизни, устраняет возможность нарождения в нем алчбы и жажды духовной. Богачу не нужно неба, потому что ему хорошо на земле 99). Так как сердце наше склоняется туда, где наше сокровище 100), то сердце богача, делающего себе из богатства сокровище, собирающего богатство, оказывается прикованным к земле, и богатство уединяет человека от Бога 101). Зло богатства в том, что оно господствует над человеком, тогда как господство над нашим сердцем должно принадлежать одному Богу. Зло богатства открывается именно тогда, когда человека зовет Бог: тогда богатство оспаривает у Бога власть над человеком 102). Зло богатства не в чем ином, как в том, что надеющимся на богатство трудно войти в царство Бога, и на пороге царства Божия чувствуется вся тяжесть земных стяжаний 103). К самодовольству, уединяющему человека от Бога, и к самонадеянности, удерживающей его от вступления в царство Божие, богатство присоединяет еще возможное обилие наслаждений, которые лишают человека духовной бодрственности 104). В виду всего этого евангелие и смотрит на богатство, как на преграду для проповеди о царстве Божием, а на нищету, как на условие ее благоуспешности. По учению Христа, благовествование нищим составило содержание Его евангелия и цель Его деятельности наравне с исцелением больных, успокоением сокрушенных сердцем и измученных, дарованием свободы пленным и прозрения слепым 105). Евангелие Христа есть евангелие нищим и грешным. Этот взгляд на богатство и нищету с особенною рельефностью передается в евангелии Луки. Здесь богатство и бедность оцениваются как бы сами по себе и притом с юридической точки зрения: нищим обетовывается царство Божие, алчущим насыщение и плачущим веселие, напротив, — возвещается богатым горе, ибо они уже получили свое утешение 106), пресыщенным алчба и смеющимся рыдание 107). Но несомненно, как не само по себе богатство стоит препятствием на пути к вечной жизни, а самодовольство и самонадеянность богатства, так и не сама по себе нищета прокладывает путь к царству Божию, но поскольку она сопровождается устремлением к небу. Царский пир наполнился всяким сбродом, нищими, увечными, хромыми и слепыми, так как званные не были достойны 108); но все-же оказавшийся из них не в брачной одежде был изгнан 109). Поэтому более надежным нужно признать чтение по евангелию Матфея, в котором ублажаются нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды. Духовная нищета это — та нищета, которая соединяется с сердечным сокрушением, с жаждой небесных благ, которая уводит душу от земли к небу.
Обольщение богатства состоит в том, что оно порождает самодовольство «надеющихся на богатство». Но никакая другая надежда на богатство не бывает так вредна в религиозно-этическом отношении, как та, которая создается широкою возможностью благотворений, не говоря уже о пышности религиозных обрядов и богослужебных жертв. По юридически иудаистическому воззрению милостыня имела искупительное значение; она покрывала всякие грехи и в том числе грех приобретения богатств и обладания ими. Евангелие ни о чем другом так часто не говорит, как о милостыне. Разумея обрядовую нечистоту, оно даже говорит на языке иудаизма, что милостыня делает все чистым 110). Но это не изменяет основного взгляда евангелия на богатство. Дело в том, что евангельская благотворительность имеет характер абсолютный. По евангелию благотворить значит раздать все имение. «Продавайте имения ваши и давайте милостыню» 111): такова евангельская заповедь. Поэтому, чем более богатства у кого-нибудь, тем труднее ему исполнить евангельскую заповедь о милостыне, при самых благоприятных условиях. Даже юноша, исполнивший все заповеди закона и полюбившийся Христу, отошел от Него с печалью и смущением, когда Христос от него потребовал продать все свое большое стяжание и раздать нищим 112). И на это евангельское требование нельзя смотреть как на исключительное, имевшее значение только для этого юноши, и нельзя укрываться за условное желание «быть совершенным»: евангелие обращает это требование ко всем, кто хочет жить по евангелию, кто приходит ко Христу, кто стучится в двери царства небесного, хотя оно никому не ставит внешних требований, не навязывает желания быть совершенным Евангелие нисколько не затрагивает языческого отношения к богатству, но его собственное требование — только это абсолютное требование. И это требование тем легче исполнить, чем менее имеет человек. Бедная вдова отдала на храм только две лепты, и она уже «положила все пропитание свое, какое имела» 113). Для богача это трудно сделать, и настолько, что скорее верблюд пройдет сквозь игольные уши, чем богатый войдет в царство Божие 114). По словам евангелия, спасение богача является делом, превышающим человеческие силы. Оно возможно лишь для Бога 115). Это значит, что свобода человека от обольщения богатства становится возможною лишь тогда, когда в нем уже народилась вечная жизнь, когда он уже поднялся на высоту божественной абсолютности, когда им овладела божественная любовь. Во всяком случае богатство по-христиански может быть употреблено единственно путем полной его раздачи, и богач может достигнуть христианского совершенства, лишь переставая быть богачом. Иудаизм весьма ценил благотворительность; приточный фарисей раздавал десятую часть из всего, что приобретал 116). Это очень широкая благотворительность, и должно признать благоустроенным то общество, где применяется такая благотворительность. Но все-же между благотворительностью иудейскою и евангельскою «утверждена великая пропасть». Иудей считал богатство благом даже в религиозном отношении; по евангелию же единственное религиозное употребление богатства — полная его раздача, единственное спасение богача — стать бедным. Богатство служит евангелию, исчезая, растаивая, и потому богатство для евангелия есть «мамона неправды». Богатством человек может приобрести себе друзей, как это сделал «управитель неверный»; но управитель приобрел себе друзей своею неверностью интересам имения, к которому был приставлен, так и действительный богач может заслужить себе христианское спасение, изменяя своему богатству — до конца, до полной раздачи его, до нищеты 117). Неверность управителя (ὁ οἰκονόμος τῆςἀδικίας) это то же, что неправедность богатства (μαμωνᾶς τῆςἀδικίας), т. е. употребление богатства, уничтожающее его. Только такая экономическая мирская неверность является верностью в глазах Божиих. Языческий философ называл нелепостью благотворительность не из процентов, а из самого капитала, потому что в этом случае человек делами благотворения лишает сам себя возможности благотворить на будущее время. Евангелие учит совершенно другому.
Евангелие судит о богатстве исключительно с точки зрения вечной жизни, в отношении его к благам небесного царства. Вместе с тем евангельский аскетизм не имеет ни малейшего касания к вопросам социальной экономии, к тем вопросам, которые в наши дни создали движение социализма. Евангелие не знает объективного, социального, вопроса о богатстве и нищете 118). Оно не учит, как нужно распределить в обществе богатство. В евангелии мы не найдем также оснований для той индустриальной бездеятельности, которая избирается в качестве образа жизни, для той профессиональной нищеты, которая фактически вырождается в дармоедство и паразитизм. Это религиозное нищенство забывает существенную разницу между оставлением своего имущества ради Божьего дела и воздержанием от труда и производства, как внешней формой жизни. Христианский социализм и душеспасительное безделие одинаково не имеют для себя точки опоры в евангелии, поскольку евангелие не затрагивает ни экономического строя общества, ни внешнего образа человеческой жизни, но обсуждает богатство и бедность в единственном отношении их к вечной жизни, к лично-религиозной абсолютности.
В этой же связи раскрывается и отношение евангелия к мирским занятиям. И последние для евангелия получают этическую оценку в том единственном случае, когда они сталкиваются с вечной жизнью: они осуждаются лишь в той мере, в какой отвлекают от вечной жизни, и отвергаются единственно для определенного призвания царства Божия. Так, по притче, званные на пир не явились, извиняясь один покупкой земли, другой приобретением волов, третий женитьбой 119) И учеников Своих Христос взял от занятия рыбной ловлей, но лишь для того, чтобы сделать их ловцами человеков 120). По существу же мирские занятия и вечная жизнь несоизмеримы, и потому вечная жизнь не создает новых занятий и не заменяет общечеловеческих занятий. В христианстве мирские занятия и не имеют религиозного освящения и не отменяются по общему мотиву душеспасения.
Еще рельефнее представляется этот евангельский принцип в отношении к семье, государству и народности.
Семья, родство, дружество — это несомненное естественное благо. Это — благо любить любящих, приветствовать братьев, угощать друзей и соседей. Благо это вполне признается евангелием. В отношениях брачных и родственных оно признает изначальный закон Божий 121), и в обязанностях по отношению к родителям оно усматривает неустранимую заповедь Божию 122). Однако для евангелия союзы брачный, родственный и дружеский — природные союзы, которые выражают волю Божию, открывающуюся в законах природы, и стоят выше всяких человеческих законов, но не образуют высшей святыни, последней воли Божией. Любовь родственная и дружеская естественна, не имеет в себе ничего природно-нечистого, но и не составляет святыни 123). Евангелие знает блага более высокие, блага вечной жизни, царства Божия. Только в отношении к вечной жизни эти естественные союзы приобретают нравственный характер. И евангелие, с высоты благ вечной жизни, изрекает, наряду с заповедями о нерасторжимости брачного союза и ненарушимости детских обязанностей, заповеди о безусловном целомудрии и ненависти к семье и родным 124). Сам новозаветный Учитель считал Себя свободным от обычных притязаний матери и братьев и называл Своими родными тех, кто исполняет волю Отца Небесного 125). По-видимому, здесь даны основы для популярного понимания аскетизма, для признания безбрачия выше брачной жизни. И, однако, популярный аскетизм, тяжело склоняющийся к языческому дуализму и иудейскому номизму, представляет собою грубый символ евангельской абсолютности и даже искажение евангельской мысли. Он различает два рода жизни — брачный и безбрачный, и признает более пригодным для достижения царства Божия путь безбрачия и свободы от родственных связей. Предполагается, что плотские радости, вообще, и брачные, в особенности,—нечисты, а путь безбрачия и свободы от мирских занятий уже сам по себе есть путь вечной жизни. Отожествляется возможная бесплотность с божественно-абсолютною духовностью. Но евангелие не знает двух родов естественной жизни; оно знает лишь одну естественную жизнь, которая образуется союзами брачными и родственными, и оно признает эту жизнь бесспорным естественным благом. Евангелие заповедует отречение от этого блага не потому, чтобы знало другой род жизни, более высокий, а потому, что для вечной жизни требуется отречение даже от величайших из благ естественной жизни. Жертва евангельская была бы ничтожною, если бы естественная жизнь признавалась в евангелии природно-нечистою и недостойною человека; но она тем выше, что по евангелию брачные и родственные отношения принадлежат к категории благ, даруемых единым Отцом Небесным 126). Евангелие не знает двух родов естественной жизни, но оно проповедует, что, кроме естественной жизни, есть жизнь вечная, божественная, духовная, представляющая несравненно более высокое благо, для которого нужно жертвовать благами естественной жизни. Евангелие требует аскетизма только для вечной жизни, но вечная жизнь не образует другого видимого рода жизни, так как видимая естественная жизнь только одна. Духовная жизнь требует этой жертвы и в ней реализуется, но жертва не составляет рода жизни, не заменяет внешней жизни. Таково, в частности, отношение евангелия к браку. В том, что по евангелию и брак нерасторжим и целомудрие абсолютно, не дано основания для их взаимного отношения; это отношение уясняется [лишь с высоты вечной жизни. В евангельской речи о скопцах ударение стоит на словах «для царства небесного»: как есть скопцы, для которых абсолютно невозможна брачная жизнь, так некоторое люди — не другой род жизни избирают, но лишают себя брачной жизни, жертвуют ею для царствия небесного. Понимание абсолютного целомудрия и скопчества в смысле законническом, в смысле внешнего образа жизни, приводит в безвыходное положение, как и законническое понимание брачной нерасторжимости. В случае обязательной нерасторжимости брака лучше не жениться (οὐσυμφέρει γαμῆσαι) 127). Но и целомудрие в евангелии понимается абсолютно, так что право на безбрачный род жизни отнимается малейшим движением похоти и остается только за уродами,— и в смысле обязательного безбрачия лучше жениться, чем разжигаться (κρεῖττονἐστιν γαμῆνἢ πυροῦσθαι) 128). Безвыходность полная. И единственная возможность миновать ее, это — понимать евангельское скопчество не как безбрачный род жизни, а как оставление семейной жизни, жертву ею — для царства Божия. Это будет евангельская жертва, когда ясно сознается связь ее с вечной жизнью, когда брачная жизнь бывает несовместима с требованиями евангелия, когда она становится препятствием на пути к вечной жизни, т. е., когда или Христос зовет человека на какой-нибудь подвить, не выполнимый в узких пределах семейной жизни, или опустившаяся семья начинает опошливать человека. И ни в каком случае евангелие не дает оснований для безбрачной жизни по общим мотивам душеспасения. Равным образом, и заповедь о ненависти к родным вообще требуется евангелием не как особый род жизни, отшельничество, а как жертва благом родства, как крест ради царства небесного 129). Жертва эта требуется евангелием не по отвлеченным соображениям относительно того или другого рода жизни, а по тому фактическому основанию и под тем действительным условием, что родственная связь становится препятствием на пути к вечной жизни. Основание для этой заповеди в том, что евангелие, усвоенное человеком и переродившее его, производит вражду между ним и родными его 130). Вражда эта является признаком действенности евангельской проповеди 131), и ее обнаружение желательно 132). Если объективно огонь этой вражды является признаком наступления царства Божия, то субъективно, для каждого ученика Христова, он дает случай деятельно проявить свою духовную жизнь, исповедать Христа. Таким образом любовь ко Христу сталкивается в человеческом сердце с любовью к родным, и для христианина является необходимым избрать между отречением от Христа и родственною связью, с одной стороны, и, с другой стороны, исповеданием Христа и ненавистью к родным 133). Здесь совсем неуместны общие соображения о спасительности того или другого рода жизни, но все дело — в фактическом столкновении любви к родным с любовью к евангелию 134). Для перемены естественного чувства любви к любящим на ненависть к родным необходимо действительное влечение к вечной жизни и религиозное призвание, не совместимое с естественными пристрастиями, необходимо в человеке сознание, что родные пальцы начинают душить его, что родная тина втягивает его 135). Насколько несомненно, что Христос не терпел ни малейшего компромисса, требовал самого решительного и безвозвратного следования за Ним, настолько же бесспорно, что разрыв естественных родственных связей оправдывается с евангельской точки зрения лишь наличностью работы во имя вечной жизни. Евангелие не кодекс социальных отношений, а принцип личной жизни.
Также совершенно разделяются в евангелии религия и государство, как разнородные области — духовная и мирская. Сюда относится ответ Христа на искусительный вопрос фарисейских учеников и иродиан, позволительно ли давать подать кесарю. Христос сказал им: «отдавайте кесарево кесарю и Божие Богу» 136). Пока государство и вера не сталкиваются, это две разнородные области, одна — вполне естественная и другая — вполне духовная. Если же кесарь спрашивает того, что принадлежит Богу, то на его требование ученик Христов может ответить только неповиновением, не боясь убивающих тело, и ему остается в этом случае единственный путь подвига, мученичества. Но о порядке государственного строя евангелие не могло обмолвиться ни одним словом. Оно не санкционирует государственного порядка, не смотрит на государственное дело религиозно; оно относит его к категории земных» человеческих дел. Тем менее оно могло определять формы государственной жизни. В собственной области, с внутренней стороны, духовная жизнь не имеет никакого· прикосновения с государственным устройством: в ней нет места господству, рабству, крепостничеству, она определяется иным законом, законом любви, служения больших меньшим 137). Но, конечно, этим «иным» порядком не может быть заменен государственный строй, который во всяком случае остается и для христианина языческим» т. е. природным. Евангелие и не освящает, и не отменяет государства.
Государственная власть была дана для Христа и Его соотечественников как внешняя, языческая; в отличие от этого, Он глубоко переживал национальное чувство. Христос любил Свой народ и желал его спасения. В последние дни Своей жизни Он плакал об Иерусалиме, не внявшем Его проповеди 138). Тем не менее Он грозно отверг этот народ, не захотевший Его принять 139). И здесь, в вопросе о патриотизме, мы еще раз встречаем применение общего евангельского принципа, определяющего отношение областей мирской и духовной. Патриотизм — вполне естественное чувство, национальность — естественное благо; но этическую ценность это чувство приобретает лишь при столкновении его с требованиями вечной жизни, для которой нужно жертвовать всякими естественными благами. В жертве естественными благами и, в частности, национальностью сказывается действенность вечной жизни. Это не то, что равнодушие к национальному и другим благам, признание их ничтожными; но именно жертва этими благами делает вечную жизнь реальною силою. Для евангелия самое характерное, в его историческом облике, то, что оно есть переход религии от национальной ограниченности к универсальной безусловности. Это не есть переход от патриотизма к космополитизму, но это — жертва патриотизмом во имя религии. Патриотизм и для христианина есть только естественное чувство, национальность — естественное благо, выше которого — духовная жизнь: евангелие не проповедует космополитизма, но оно и не освящает национальности и патриотизма. Христиански-святого народа, богоизбранного народа, не может быть, как не может быть христиански — святого государства или брака. Такая святость лишь там, где религия ограниченна.
Евангельская история представляет две фазы в отношениях Христа к иудейскому народу: первоначальное ограничение проповеди пределами Израиля и последовавшее затем отвержение Израиля. В этом двояком отношении и открылось перерождение иудейского национализма в христианский универсализм. Отвержение иудейского народа привело Христа к смерти. Так и ученик Христа должен быть готов к изгнаниям и мучениям 140). Эти мучения завершают христианский аскетизм. Его первые ступени — свобода от ежедневных забот и от обольщений богатства, затем семейная и родственная вражда, а последние.
Ступени — мученический венец от народа и власти. Это составляет христианский крест 141). Евангелие требует самоотречения полного и бесповоротного, самоотречения до смерти 142). Но и на своих последних ступенях христианский аскетизм не· имеет ничего общего ни с языческим путем самоумерщвления и самоистязаний, ни с иудейско-юридической оценкой жертвы. Христианское самоотречение требуется единственно мотивами вечной жизни, абсолютной любви, и христианский крест воздвигается единственно враждебностью мира к евангелию. Ненависть мира — необходимое предположение евангельского учения о самоотречении и кресте 143). И в своих результатах христианское самоотречение не улетучивается в пустоте нирваны: оно неразрывно связывается с действием мученика на мир, с исповеданием евангелия 144). Таким образом крест от людей оказывается страданием за людей, и христианское самоотречение, как в начальных своих ступенях, так и в последнем моменте есть дело любви 145).
Благо вечной жизни, или абсолютность богосыновней любви, имеет предопределенную сцепленность со смертью, которую неизбежно побеждает. Долг свободной смерти для христианина начертан в евангелии неизгладимыми и яркими словами: пшеничное зерно божественной духовности должно умереть, чтобы принесть много плода и сохраниться в жизнь вечную 146). Божественная безграничность духовной любви и ее реальность, как любви к миру, делают вполне понятным этот долг смерти. Однако этому долгу совершенно чужд внешне-юридический характер. Нужно проникнуть в самое существо духовной жизни, чтобы видеть, почему она вполне усвояется только в смерти и вполне открывается только в победе над смертью. Глубоко прочувствованное благо духовной жизни погашает потребность длительного существования и вызывает «отрешенность» от земли — оно принимает черты надмирности и надвременности: для охваченного вдохновенною любовью сладко умереть, при всей физической отвратительности смерти. И каждое требование духовной жизни может быть реализовано лишь в моменте смерти, или в готовности к ней. Подставьте к какой угодно стороне евангельского принципа неустранимую длительность существования, обязательный обход смерти, добавьте к какому-нибудь евангельскому требованию оговорку «не до смерти», и для вас все евангельские слова будут звучать фальшью и лицемерием. В системе евангельского учения только один пункт занимается идеей смерти, но он предполагается всеми остальными пунктами Ученик Христа только однажды может «положить душу свою» за людей, но готовность к смертной жертве составляет нег обходимое предположение всей христианской жизни. Любовь и вечная жизнь — это на языке евангелия то же, что любовь и смерть: евангельская любовь есть любовь до смерти и вечная жизнь в победе над смертью. Это освещает еще одну сторону в эсхатологической перспективе вечной жизни. Не равняясь языческому спиритуалистическому бессмертию и иудейскому чувственному воскресению, евангельская вечная жизнь обладает бессмертием божественной духовности, как недоступная смерти, и вместе с тем является воскресением и победою над смертью. По евангельскому учению не только у Бога все живы 147), не только воспринявшие слово жизни не видят смерти, не вкушают ее 148), но сыны Божии являются необходимо сынами воскресения 149).
Евангельское учение о грехе составляет часть учения о вечной жизни, т. е. евангелие судит об этом предмете с точки зрения вечной жизни.
Христос встретил определенное иудейское понятие праведности, как исполнения закона, и греха, как нарушения закона и, в дальнейшем, завета. Для иудея не только праведность и грех были юридически-ясными понятиями, но и праведник и грешник были для него точно различимыми лицами.
Как евангелие отнеслось к этой нравственной классификации? Евангелие вполне принимает эту классификацию, эту терминологию, но иначе оценивает ту и другую этическую группу — соответственно тому, как отнеслись к евангельской проповеди те и другие, праведники и грешники. Праведники приняли проповедь вечной жизни с тем же нерасположением, как и богатые, а грешники с тем же расположением, как бедные, больные, простецы, и это случилось тем неизбежнее, что номистические праведники были сребролюбивы и богаты, грешниками же оказывались бедняки и простецы. Примечательный факт евангельской истории составляет то, что мытари и блудницы опережали праведников на пути в царство Божие 150). Это объясняется тем, что номистическая праведность и греховность вполне совпадали в человеке с сознанием своей праведности или своей греховности. Каждое законнически-праведное дело наполняло сердце человеческое самодовольством и каждый грех рабски придавливал человека, внушал ему чувства страха, потерянности, погибели, ничтожности. Это обстоятельство вполне отмечается в евангелии, которое представляет праведников не имеющими нужды в покаянии, уверенными в своей праведности, возвышающими самих себя, выказывающими свою праведность 151), а грешников — больными, плохо себя чувствующими, имеющими нужду во враче, унижающими себя, кающимися 152). Здесь особенно припоминаются приточные образы фарисея и мытаря, молившихся в храме, и двух сыновей. В силу этого обстоятельства праведники, именно как праведники, оказались врагами евангелия, обладание праведностью заграждало для них путь к вечной жизни, самодовольство закрывало их сердце пред евангелием; напротив, грешники горячо отозвались на евангельский призыв к вечной жизни. Эта расположенность к вечной жизни отбросов общественных отвечала глубочайшим мотивам благовествования Христова — Его жалости ко всему обремененному и уничиженному, к презренному и потерянному, к погибшему и рассеянному. Таким образом законническая праведность и греховность с евангельской точки зрения получили иную оценку, чем в номизме, и во всяком случае сведены с твердыни религиозно-объективного измерения на ступень историко-психических условий распространения царства Божия. Этому соответствовало и то, что евангелие и по содержанию своему несло исцеление измученным, освобождение пленным, насыщение алчущим и жаждущим правды: оно рассеивало мираж древнего бремени, возвещало новые ценности, новое легкое иго.
Впрочем, евангелию чужды искусственная последовательность и логическая односторонность философской системы. На его страницах решительно нет места застывшим формулам. Кроме единственного неподвижного центра — абсолютного блага вечной жизни, оно не знает ни одного неподвижного пункта. Оно, как и сама жизнь, признает постоянное движение, непрерывную эволюцию. Так, ублажая нищих, оно обетовывает им насыщение, не фиксируя нищеты в качестве непрерывного блага. Равным образом, признавая преимущество грешников пред праведниками в направлении к вечной жизни, оно однако призывает грешников к покаянию и объявляет им прощение грехов, как первое благо вечной жизни 153). В этом отношении евангелие считалось с фактическим сознанием грешников 154), Другою опорою для такого отношения евангелия к грешникам служила связь грехов с болезнями, как следствием 155), хотя в евангелии разумеется связь опытная, естественная, и в нем отвергается иудейский взгляд на болезни и бедствия, как на религиозно-юридическое наказание за всякий грех, взгляд на все болезни и бедствия, как на кару за определенные грехи. Наконец, для евангелия эти номистические прегрешения подзаконных впадали в более широкое русло того долга пред Богом, который обнимает всех людей и для всех Делает неизбежным путь покаяния.
Рядом с номистической классификацией праведности и греховности евангелие выставляет иные этические нормы. В евангелии несоответствие человека своему этическому призванию определяется с двух сторон — по содержанию и по форме. По содержанию не отвечающее воле Божией настроение человека обозначается понятием злость 156), в противоположность тому, что этическое благо определяется со стороны волевого содержания понятием благости, доброты. Законническое различие праведников и грешников сменяется различием доброго человека (ὁ ἀγαθόςἄνθρωπος) и злого человека (ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος). По евангельскому воззрению божественная жизнь характеризуется как благость и любовь 157); поэтому по свойству злости человек оказывается в самой решительной противоположности Богу, со всеми последствиями этого отчуждения от Бога. Человеку свойственно быть злым, Богу — быть благим 158). Злость является всецело свойством сердца, и в таком направлении сердца евангелием полагается самая сущность отчуждения человека от Бога. Евангелие не оценивает человека юридически по его поступкам; оно видит его достоинство или недостоинство исключительно в сердечной настроенности, достоинство — в благости, недостоинство — в злости 159). Все этические поступки человека служат лишь раскрытием сердечного сокровища, его обнаружением, его плодами, и потому они имеют разве только гносеологическое значение: по ним, как по плодам о дереве, можно судить о сердце 160). Все поступки человека истекают из сердца и от него получают этическую ценность 161). Этические поступки человека и слова его так же, как и тайные помыслы, равно исходят из сердца, как из корня 162). Человек поэтому является ответственным не только за поступки, но даже за слова и за помыслы 163); однако это не юридическая ответственность, которую можно искупить делами и жертвами: точка приложения евангельской ответственности в сердце. Главное внимание человека должно быть обращено на то, куда направлено его сердце, к небу или к земле, к какому сокровищу оно привязано 164). Евангелие стоит вполне на почве ветхозаветной психологии; но оно с совершенно»} определенностью сводит различие в этическом направлении сердца к благости и злости. Евангельская амартология утверждается на тех же устоях, как и евангельская этика. Как принцип духовной праведности является применением абсолютной любви ко всей широте жизни; так и все не отвечающее божественной воле в жизни человеческой, будут ли то поступки, или слова, или помыслы, оказывается по евангельскому учению раскрытием злости: евангелие осуждает злые дела, злые слова, злые помыслы. Всякое достойное осуждения дело или слово имеет причину в дурном движении сердца 165); но всякая дурнота сердца есть в сущности злость, противоположность благости, или любви: все дурные поступки и слова обнаруживают тот или другой злой помысл 166). Как, по евангелию, нет нужды знать закон, справляться с кодексами, чтобы угодить Богу, но достаточно любить, любить без конца, любить до смерти, любить по божественному; так и не нужно бояться никаких поступков, нужно бояться только одного — злости. В поступках и словах никакого зла не может быть, человек господин своих дел; но зло, в злости, которая наполняет сердце и открывается в словах и поступках. По номистическому воззрению зло было в беззаконных делах, во-первых, потому, что такие дела нарушали закон и осуждались Богом, и, во-вторых, потому, что они нарушали общественное благосостояние: это был юридически-утилитарный взгляд на зло. Но иначе смотрит на зло евангелие. Зло — в злости. Зло злости не в том, что злые поступки юридически осуждаются и вредны для общественной жизни, а в ней самой, подобно как и вечная жизнь в себе самой имеет награду. Как вечная жизнь дает внутреннее блаженство, богообщение, ведение Бога; так злость есть состояние смерти и погибели, отчужденности от Бога, неведения Бога, внутренней неуравновешенности, неумиротворенности, рабства 167).
Что же такое зло в религиозно — формальном отношении? Оно не есть собственно грех, как юридическое понятие. Оно есть недостоинство пред Богом, как говорил распутный сын отцу: «я недостоин называться сыном твоим» 168), — оно есть долг пред Богом, как научил нас молиться. Христос: «прости нам долги наши» 169). Любовь есть наш долг пред Богом 170), потому что божественная жизнь, истинная для нас жизнь, идеальная, дана в любви, и воля Божия открывается в требовании быть милосердными как Отец Небесный. Особенность этого долга та, что от него никогда нельзя отделаться, так как любовь божественная беспредельна, отчужденность же от любви и вечной жизни делает всех без исключения должниками, так что область его является беспредельною. Новозаветное понятие греха есть понятие долга, должного. И все выводные понятия, которые в ветхозаветном юридическом миропонимании соединялись с понятием греха, каковы понятия искупления, искупительной жертвы, возмездия, неприменимы к евангельскому понятию долга. Злость есть долг любви, и этот долг может быть выполнен только одним путем — любовью, вечною жизнью, ее действительным усвоением со стороны должника, его внутренним, перерождением. Иначе представляются с евангельской точки зрения и отношение религиозного дожа к природе и его историческое развитие.
По учению евангелия, человеку, в невозрожденном состоянии его природы, т. е. не родившемуся свыше, или духовно, свойственна злость, и потому природа человеческая естественно не соответствует высоте божественного требования: люди естественно злы так же, как Бог естественно благ 171). Таковы были иудеи, как не имевшие в себе любви Божией 172), и преимущественно язычники, обычно выставляемые в евангелии в качестве типических представителей невозрожденного состояния 173). Что это за состояние в этическом отношении? В чем эта естественная злость? Люди-язычники, будучи злы, умеют даяния благие давать детям своим, любят любящих их, приветствуют братьев, делают добро друзьям, угощают соседей 174). Это, очевидно, состояние натуральной нравственности, утилитарного общежития, — то, что составляет мирскую жизнь с ее сложными отношениями власти и подданных, торговли и взаимных услуг, семьи и родства. Об этом состоянии Христос говорит, что за него нельзя ожидать награды, благодарности и похвалы, хотя оно и не ответственно: оно естественно для человека, но не имеет ничего общего с божественною духовною жизнью, с религиозною областью 175). Естественная мирская любовь, земная, ограниченная, пристрастная, является злостью в сравнении с божественно абсолютною самоотверженною любовью, не говоря уже о тех болезненно-чудовищных вырождениях человеческой злости, проявляющейся в семейных жестокостях, в государственном деспотизме, в вероломстве, которые осуждаются с точки зрения самой естественной нравственности. К злости, придающей яркий отпечаток естественному состоянию, прибавляется немощь, немощь бессилия и немощь неведения, также отъединяющая человеческую жизнь от жизни божественной, делающая человеческую природу плотью в отличие от духовности божественной 176). Плоть, при встрече человека с божественными требованиями, действует на него искушением 177). Преимущественно бессилие плоти сказывается в страхе смерти, также в боязни ежедневной нужды и людских гонений. В немощи плоти дано основание для практики молитвенного бодрствования и поста. Вместе с бессилием страха немощь плоти обнаруживается в неведении 178)… Не трудно видеть, что· в это широкое русло природно-человеческой злобы, немощи и неведения умещается та немощь и то невежество· ветхозаветных грешников, которые следовали за неисполнением закона и образовывали один поток в этом русле.
Как евангелие судит о естественном состоянии злобы, немощи и неведения? Оно учит, что это природное состояние не дает человеку благ религиозной жизни, не приводит его к похвале и благодарности, но вместе с тем оно не вменяется человеку в вину. Всякий грех прощается человеку 179): таков евангельский суд о человеческих долгах пред Богом. Сколько кому дано, столько с него и требуется; сколько вверено, столько и взыскивается. С незнающих не спрашивается, слепые не имеют на себе греха 180). Впрочем, и в этом отношении евангелию чужды застывшие формулы. Оно не относится безразлично к природно-языческой злобе людей, не проходит мимо естественных долгов человека пред Богом: оно прощает их. Хотя оно не осуждает человека за эти долги, но в самом прощении заключается момент осуждения, которое вместе с прощением и снимается. Мало того, оно даже ставит человеку условия для получения прощения людьми — их веру, взаимное прощение друг другу и любовь 181). Больше того — оно отказывает в прощении, если человек не исполнить этих условий; но здесь уже мы переводам к иной точке зрения, здесь уже, разумеется отношение человека к вечной жизни, к открывшейся, евангельской проповеди, к воссиявшему свету.
Евангелие не останавливается на статике человеческой природы, оно выявляет динамику человеческого зла. Как вечная жизнь даруется человеку в движении, в возрождении его, так и зло имеет свою историю. Зло, как состояние природы, становится крайне злым, когда сталкивается с вечною жизнью и сознательно, с упорством отстаивает свое существование, утверждает себя в противовес благу 182). Это то, что на языке евангелия называется хулою на духа святого, в противоположность хуле на Сына человеческого, тем грехом, который не прощается человеку ни в этом веке, ни в будущем 183), иначе, как выражается апостол, смертным грехом 184). Хула на Сына человеческого это грех неведения, грех тех, которые видят во Христе простого человека, а хула на духа — это грех тех, которые отвергают проповеданный Христом принцип духовной жизни во имя принципов злого сердца 185). Так иудеи не приняли Христа потому, что не Бог был их отцом, но они следовали человекоубийственным похотям диавола 186): добро, принесенное Христом, они принимали за обольщение 187). Если естественное состояние характеризуется отсутствием любви к Богу и Божией любви ко всем людям, наличностью любви только к своим, то в ненависти ко Христу иудеи проявили не только нелюбовь к Богу, но и ненависть к Нему 188). Эта ненависть не вновь в них народилась, но естественная злость, при встрече со светом 189), стала крайнею религиозною злобою, крайне сознательною и грешною. В частности, и неведение Бога, свойственное невозрожденному состоянию, становится греховным, когда оно упорствует против открывшейся истины 190).
Таким образом, понятие греха, изгнанное из евангельской системы в своем ветхозаветном смысле, снова появляется в ней. Но сила евангельского греха против Святого Духа, греха упорного противления вечной жизни, не в юридическом осуждении, а в его непосредственной гибельности: он носит свое наказание в себе самом, как вечная жизнь, или духовная праведность, имеет награду в собственном блаженстве. Не принять евангелия и вечной жизни, это значит остаться в смерти, не иметь жизни и блаженства, пребывать в погибели. Это уже не естественное состояние злости: освещенная светом вечной жизни, она теперь возрастает до высшей степени мучительности. Первыми носителями таких мучений злобы, такой духовной смерти, были враги Христа, как нам изображает их евангельская история, с их раздвоенностью в отношении к евангелию и сознательностью противления воле Божией. В евангельском учении о грехе важно и то, что это не грех природы, встретивший евангельскую проповедь, но грех, вызванный, на основе природной злости, самою евангельскою проповедью, грех, на который неверующие были осуждены Христом. Он не только прощал грехи и долги, которыми люди страдали до Него, не только даровал им вечную жизнь и был их спасителем, но Он был и судиею людей, так что от Его проповеди невидящие стали видящими, а видящие слепыми 191). Этот новый грех, который стал действительностью только с евангельскою проповедью, который единственно признается евангелием за грех и который носит всю бездну погибели в себе самом, есть грех неверия в Сына Божия 192). Евангелие разделило людей на две противоборствующие части — на рожденных от истины детей Божиих и на детей диавола, возлюбивших тьму 193). Эта новая этическая классификация обладает характером универсальности, по существу открывшегося абсолютного принципа вечной жизни: никто не может пройти мимо этого разделения. Снова сказать, не впервые неверующие стали детьми диавола, однако несомненно, что они стали хуже. Евангелие изгнало из сердец людских злого духа, но неверующие снова дали в себе ему место, и последнее стало для них хуже первого 194): неверующие стали хуже содомлян, открылись верными сынами диавола 195).
В евангелии с учением о грехе в тесной связи стоит учение о греховном мире, преимущественно раскрытое в евангелии Иоанна. Сообразно двоякому отношению евангелия вообще к природно-общественной жизни — к имуществу, занятиям, родству, государству, национальности, двояко судит евангелие и о мире. Прежде всего мир—это весь сотворенный космос 196), в его природной красоте и богатствах 197), в более тесном смысле мир — это весь род людской 198) в его природном состоянии, преимущественно языческий мир (τὰ ἔθνη τοῦ κόσμον), с его заботами о пище и одежде 199), с его общественным устройством, властью, слугами, войском 200). В этом смысле к миру не прилагается этической оценки. Так не только в тех местах, где речь идет о начале мира 201), о его богатствах 202), но даже и в тех местах, где люди мира сего представляются в заботе о ежедневных нуждах; с своим общественным устройством. Хотя сыны Божии должны быть внутренне свободны от этих забот и хотя внутренний строй царства Божия совсем не мирской 203), однако отсюда еще не следует, что эти заботы и этот строй достойны осуждения в пределах самого языческого мира. Мало того. Бог, посылающий дождь и солнечный свет на добрых и злых, любит весь мир, весь род людской, и желает для него вечной жизни, как высшего блага, отдает для его спасения Своего возлюбленного Сына 204). Впрочем, эта спасительная любовь Бога к миру свидетельствует и о том, что без вечной божественной жизни, без веры во Христа, мир погибает, умирает во грехах своих 205). Однако мы знаем, что мирские грехи и естественные долги человека становятся крайне грешными и подлинно гибельными, мучительными, от противоборства вечной жизни, что в речах о гибели мира во грехах своих уже разумеется свет, пришедший в мир и судящий его, освещающий и осуждающий его тьму 206). Столкновение мира с вечной жизнью, его противоборство слову духовной жизни, и придает ему этическое освещение. Евангелие этически судит о мире исключительно с точки зрения вечной жизни, в отношении его к проповеди Христа. Мир, этически обсуждаемый и осуждаемый евангелием, есть мир ежедневных забот, родства и государственного строя, поскольку он во имя принципов естественной злости противится евангелию вечной жизни. Это мир, не принимающий духа Христова и не верующий во Христа и в Бога, не знающий Бога, ненавидящий учеников Христовых, мир, покорный своему князю, рабствующий греху 207). Греховный мир есть тот мир, который восстал на Христа, не уверовал в Него, возненавидел Его: греховным мир стал вследствие отрицательного отношения к проповеди Христа. Не уверовав во Христа, мир согрешил, сделался рабом греха, стал под власть диавола, хотя диавол осужден и побежден Христом. Как отвергнутый Христом злой принцип жизни, диавол стал владыкою мира, не уверовавшего во Христа, но изгнан из сердец верующих. Поэтому люди, верующие во Христа, выходят из — под власти лукавого 208). Есть неизбежное двойство в том, что Христос не судит мир, спасает его, и побежденный Им диавол как молния спал с неба, однако не· верующий мир уже осужден, и власть диавола стала над ним более прочною, чем была когда-либо прежде.