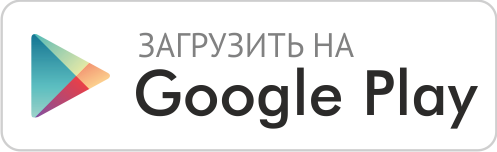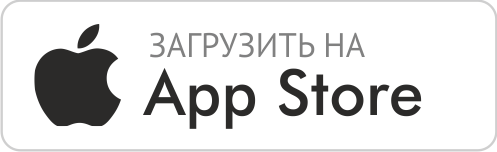ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Исследование о преподобном Симеоне мы начнем с того, что проясним его отношение к Священному Писанию. Библейский экзегезис Симеона можно определить как его собственную версию монашеской и литургической традиций в герменевтике; обе эти традиции в свою очередь являются синтезом александрийского и антиохийского направлений в древне-церковной библейской экзегетике. В настоящей главе мы укажем на роль Священного Писания в православной Традиции и отметим некоторые наиболее традиционные аспекты интерпретации Писания в Восточной Православной Церкви. Затем мы будем говорить об отношении Симеона к Писанию, рассмотрим способы цитирования и методику толкования Библии у Симеона.
- Священное Писание в православной Традиции
На православном Востоке Писание и Предание никогда не рассматривались как два самостоятельных источника христианской веры. Есть только один источник — Предание, а Писание является его частью[136]. Писание не есть основа религиозной веры: оно само основано на религиозном опыте и отражает этот опыт[137].
Будучи частью Предания, Библия, однако, играет в жизни Церкви совершенно особую, исключительную роль. Ветхий Завет, прообразующий христианские истины, потом Евангелия, ставшие после смерти непосредственных учеников Христа единственным источником, доносящим до христиан живой голос Иисуса, и наконец послания, написанные апостолами и принятые Церковью как наследие первого поколения христиан — вот три основные части, составляющие канон Писания:
Будем прибегать к Евангелию, как к плоти Иисуса, и к апостолам, как к пресвитерству Церкви. Будем любить также и пророков, ибо и они возвещали то, что относится к Евангелию, на Христа уповали и Его ожидали и спаслись верою в Него[138].
Эти слова священномученика Игнатия Богоносца обобщают основные принципы подхода к Священному Писанию в ранней Церкви: Евангелия понимаются как «плоть Иисуса», Его воплощение в слове, послания апостолов — как церковный комментарий к Евангелиям, а творения пророков, или шире, Ветхий Завет – как ожидание и предвосхищение Пришествия Христа.
Учение о Евангелии как плоти Иисуса получило дальнейшее развитие у Оригена. Во всем Писании он видит κένωσις (истощание) Бога Слова, воплощающегося в несовершенные формы человеческих слов:
Все, признаваемое словом Божиим, есть откровение воплотившегося Слова Божия, Которое было в начале у Бога (Ин. 1:2) и истощило Себя. Поэтому мы за нечто человеческое признаем Слово Божие, ставшее человеком, ибо Слово в Писаниях всегда становится плотью и обитает с нами (Ин. 1:14)[139].
Ориген, в частности, создал многомерное пространство для христианского типологического толкования Писания, с сохранением основных принципов иудейской и эллинистической традиций. Согласно Оригену, помимо буквального, существует скрытый, внутренний смысл в каждом тексте Писания: кроме ιστορία (буквального значения) есть еще θεωρία («созерцание», скрытый смысл)[140]. Этот типологический подход в первую очередь относится к Ветхому Завету, где все может рассматриваться как прообраз жизни и учения Христа. Что же касается Нового Завета, то «зачем искать аллегории, если буква сама назидает?»[141]
Христос есть исполнение ветхозаветного закона, в котором прообразуется Его Пришествие. Но подобно тому, как Ветхий Завет был всего лишь тенью Нового Завета, сам Новый Завет, в свою очередь, — лишь тень грядущего Царства[142]. Эта идея приводит Оригена не только к эсхатологическому толкованию отдельных библейских текстов, но также к такой форме экзегезиса, которая непосредственно связана с внутренней мистической жизнью каждого человека[143]. Как Ветхий, так и Новый Заветы, в конечном счете, являются прообразом духовного опыта отдельной человеческой личности. Одним из классических примеров мистической интерпретации подобного рода является толкование Оригена на Песнь Песней, где мы выходим далеко за пределы буквального смысла и переносимся в иную реальность, причем сам текст воспринимается лишь как образ, символ этой реальности[144]. После Оригена такой тип толкования достиг своего полного развития в православной Традиции: мы находим его у Григория Нисского и других александрийцев, а также у таких аскетических писателей как Евагрий, Макарий Египетский и Максим Исповедник.
Последний, будучи монахом по воспитанию, послужил связующим звеном между александрийским аллегорическим методом Оригена и последующей Традицией, включающей и Симеона Нового Богослова[145]. В трудах Максима мы находим все аспекты александрийского подхода к Библии. Подобно Оригену, он разделяет Писание на тело и дух[146]. Подобно Клименту Александрийскому, он говорит о двух видах, в которых Писание являет себя людям: первом — «простом и общедоступном, видеть который могут многие»; втором — «более сокрытом и доступном лишь для немногих, то есть для тех, кто, подобно Петру, Иакову и Иоанну, уже стали святыми апостолами, пред которыми Господь преобразился в славу, побеждающую чувство»[147]. Как все александрийцы, в своих толкованиях Писания Максим широко использует аллегорию. Так же, как у Оригена и Григория Нисского, аллегории у него обычно связаны с внутренней духовной жизнью человека:
Когда слово Божие становится в нас ясным и светлым, а лик Его сияет, словно солнце, тогда и одежды Его являются белыми, то есть слова Священного Евангельского Писания — ясными, прозрачными и не имеющими никакого покрова. И вместе с Господом приходят [к нам] Моисей и Илия, то есть духовные логосы Закона и Пророков[148].
От александрийцев и частично от автора Ареопагитского Корпуса Максим унаследовал понимание толкования Писания как αναγωγή (возвышение)[149]. Буквальный смысл Писания — это лишь отправная точка: надо всегда искать высшее духовное значение в каждом
конкретном тексте, переносясь «от буквы (άπο του jbrjtou) священного Писания к его духу (ею. то πνεύμα)»[150]. Тайна библейского текста неисчерпаема[151]: только ιστορία Писания ограничена рамками повествования, a θεωρία беспредельна[152]. Все в Писании связано с опытом современного человека:
Нам следует придерживаться смысла, [а не буквы] написанного. Ибо если то, что некогда происходило преобразовательно в истории, но нас ради было описано в наставление (1 Кор. 10:11) духовное — и это записанное постоянно соответствует происходящему, то… мы должны, по возможности, переместить в [свой] ум все Писание[153].
Что касается монашеской традиции толкования Священного Писания, то прежде всего надо отметить, что у монахов было особое отношение к Священному Писанию как источнику религиозного вдохновения: они не только читали и толковали его, но еще и заучивали его наизусть[154]. Монашеская традиция знает совершенно особый способ использования Писания — так называtмую μελέτη («медитацию»), предполагающую постоянное повторение, вслух или шепотом, отдельных стихов и отрывков из Библии[155].
Как правило, монахи не очень интересовались «научной» экзегетикой: они рассматривали Писание как руководство к практической деятельности и стремились понимать его посредством исполнения написанного в нем. В своих сочинениях Святые Отцы-монахи всегда настаивают на том, что все, сказанное в Писании, необходимо применить в собственной жизни: тогда станет понятным и скрытый смысл Писания. Такой практический подход к Писанию особенно характерен для «Изречений пустынных отцов». «Исполняй то, что написано», — говорит авва Терентий[156]; в этой простой формуле обобщен весь опыт толкования и понимания Писания в раннем монашестве. Знаменательно также высказывание Антония: «Куда бы ты ни шел, всегда имей перед глазами Господа; что бы ты ни делал, имей на это свидетельство Священного Писания»[157]. Таким образом, Писание должно было присутствовать в жизни монаха так же неизменно, как и Сам Господь: каждый отдельный поступок следовало сверять с евангельским свидетельством[158].
Монашеский подход к Писанию, который можно определить как экзегезис через опыт, обобщен у Марка Подвижника следующим образом:
Смиренномудрый и упражняющийся в духовном делании, читая Божественное Писание, будет относить все к себе, а не к другим… Читая Божественное Писание, старайся уразуметь сокровенное в нем, ибо все, что писано было прежде, написано нам в наставление (Рим. 15:4)… Слова Божественного Писания читай делами и не многословь, тщеславясь одним простым (буквальным) пониманием[159].
Подобный же тип экзегезиса характерен и для богослужения Православной Церкви. Чтение Писания за богослужением преследует одну цель — помочь верующим стать соучастниками описанных в нем событий, приобщиться к опыту библейских персонажей и сделать его своим собственным опытом. В Великом каноне Андрея Критского мы находим целую галерею библейских персонажей из Ветхого и Нового Заветов; в каждом случае пример библейского героя сопровождается комментарием со ссылкой на духовный опыт слушателя (молящегося) или призывом к покаянию:
Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам; аз же что постражду, отметая всегда животная Твоя словеса?[160]
Хананею и аз подражая, помилуй мя, вопию, Сыне Давидов (Мф. 15:22); касаюся края ризы, яко кровоточивая (Лк. 8:43-44); плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем (Ин. 11:33)[161].
Священник мя предвидев мимоиде, и левит видев в лютых, нага презре (Лк. 10:31-33); но из Марии возсиявый Иисусе, Ты представ ущедри мя[162].
В такой интерпретации каждый библейский персонаж становится прообразом верующего.
В литургических текстах Страстной Седмицы мы встречаем множество примеров экзегезиса со ссылкой на личную жизнь христианина. Следуя за Христом день за днем, верующий сам становится участником событий, описанных в Евангелиях. Например, эпизод с засохшей смоковницей (Мф. 21:19) комментируется так:
Изсохшия смоковницы за неплодие, прещения убоявшеся, братие, плоды достойны покаяния принесем Христу…[163]
Рассказ о предательстве Иуды побуждает автора вместе со слушателем вступить в прямой диалог с Иудой:
Кий тя образ, Иудо, предателя Спасу содела? Еда от лика тя апостольска разлучи? Еда дарования исцелений лиши? Еда со онеми вечеряв, тебе от трапезы отрину? Еда иных нозе умыв, твои же презре? О, коликих благ непамятлив был еси! И твой убо неблагодарный обличается нрав…[164]
В песнопении, посвященном Распятию, автор говорит от лица Девы Марии, а в песнопении, посвященном погребению Христа — от лица Иосифа Аримафейского. В ночь после Великого Пятка Триодь Постная предписывает совершение чина погребения Иисуса Христа — богослужения, в котором принимают участие все присутствующие с горящими свечами в руках и поются следующие слова:
Животе, како умираеши? Како и во гробе обитаеши?..
Иисусе, сладкий мой и спасительный свете, во гробе како темном скрылся еси?..
Иосифе треблаженне, погреби Тело Христа Жизнодавца[165].
Верующий настолько глубоко вовлечен в литургическую драму Страстной Седмицы, что вступает в диалог со всеми ее героями и даже с самим Иисусом. Страдания Христа переживаются им и становятся частью его личного опыта.
На примере мистической типологии Оригена и других александрийцев, а также монашеской и литургической традиций Православной Церкви мы видим, что целью библейской экзегетики является не столько простое разъяснение отдельных фрагментов, сколько поиски скрытого смысла с прямыми ссылками на личную жизнь слушателя (читателя, молящегося). Святые Отцы, интерпретируя тот или иной текст из Священного Писания, передавали читателю свой духовный опыт и приглашали его разделить этот опыт. Отыскивая «скрытый» смысл в священных текстах, они старались установить прямую связь между Писанием и духовной жизнью: при этом всегда преследовалась одна цель — преобразить ιστορία отдельной человеческой жизни в θεωρία Божественных тайн, в непрекращающееся познание Бога через Писание.
2. Учение преподобного Симеона о Священном Писании
Как истинный представитель восточного монашества Симеон унаследовал от своего окружения глубокую любовь к Писанию и прекрасное знание его. Понимание места Писания в жизни христианина у Симеона в общем соответствует Традиции. Как и многие другие писатели-аскеты, он говорит о пользе, получаемой от чтения Писания христианами, в особенности монахами:
Ибо мы имеем большую нужду в том, чтобы… исследовать Писания. Пользу, получаемую от них, явил нам Сам Спаситель, сказав: Исследуйте Писания (Ин. 5:39)[166].
Ничто другое так не полезно для души, избравшей [своим занятием] размышлять о законе Господнем день и ночь (Пс. 1:2), как исследование Писаний. Ибо в них сокрыто разумение Духа благодати…[167]
Чтение Писания должно быть непременно включено в ежедневные занятия каждого монаха. Помимо участия в службах, на которых Писание читается ежедневно, Симеон советует молодым монахам три раза в день заниматься чтением у себя в келлии[168]: после утрени, после завтрака («возьми книгу и прочти немного») и перед вечерней молитвой («возьми книгу и прочти две-три страницы»)[169]. Как пишет Никита Стифат, сам Симеон постоянно читал Писание, особенно перед утреней и Литургией, а также с раннего вечера до полуночи[170].
Настаивая на необходимости чтения Писания, Симеон особенно подчеркивает, что только то чтение полезно, которое сопровождается исполнением прочитанного. Во время чтения необходимо «вглядываться в себя, рассматривая и изучая свою душу, как в зеркале»[171]. В данном случае Симеон следует учению Марка Подвижника о необходимости прилагать все, написанное в Библии, к самому себе. Библия — это послание, адресованное каждому читателю персонально; она не из тех книг, которые читают, чтобы потом блеснуть эрудицией[172].
Вот почему Симеон всегда отрицал такой подход к Писанию, который мы сегодня называем историко-критическим. Для него Библия — не объект критического анализа, но результат пророческого вдохновения, пролагающего путь к еще более глубокой вере:
Оставим теперь тщетные и бесполезные споры… Но лучше послушаемся Владыку, так говорящего: Исследуйте Писания. Исследуйте, но не любопытствуйте о многом. Исследуйте Писания, но не устраивайте споров по поводу внешнего [содержания] Писаний. Исследуйте Писания, чтобы научиться относительно веры, надежды и любви[173].
Симеон подвергает уничтожающей критике светских ученых, дерзающих браться за толкование Писания, не имея в душе Божественной благодати:
Когда, не получив в чувстве и знании благодати Духа… я бесстыдно бросаюсь истолковывать богодухновенные Писания и возлагаю на себя достоинство учителя на основании одного лишь лжеименного знания, неужели Бог так и оставит это без суда и не потребует с меня ответа по этому поводу. Конечно же так не будет![174]
Подобно александрийцам, Симеон различает в Писании два уровня: внешний и внутренний, ιστορία и θεωρία, букву и дух. Но он не склонен видеть скрытый смысл в каждом отрывке, каждой фразе Библии. Он подчеркивает, что мы должны стараться распознать, какие слова Иисуса или апостолов сказаны прямо и нуждаются в буквальном объяснении, а какие сказаны «в притчах» и требуют проникновения в скрытый смысл[175]. Иногда он подвергает критике чрезмерную страсть к аллегориям, которая слишком далеко уводит от настоящего смысла Писания[176].
Каким образом можно приобрести правильное понимание Писания? Симеон сравнивает Писание с домом, построенным «посреди светского и эллинистического знания», а правильное понимание Писания — с запертым сундуком, открыть который человеческий ум не в силах[177]. Есть два ключа к этому сундуку: исполнение заповедей и Божественная благодать. Первое — во власти человека, второе — во власти Бога: есть некая συνεργεία (сотрудничество) человека с Богом в деле проникновения в скрытый смысл Писания. Когда замок открыт, мы получаем доступ к истинному «знанию» (γνώσις) и «откровение тайн, которые скрыты и спрятаны за словами» Писания[178].
Таким образом, тайна Писания открывается только тому, кто пытается осуществить написанное на практике и кто получил Божественное откровение. Фактически Симеон вводит понятие истинного гностика, который обладает знанием, скрытым от большинства. Он цитирует слова Господа из греческой версии Книги Пророка Исайи: «Тайна Моя — Мне и Моим»[179]. У Господа есть «свои» люди, которым открыт смысл Писания, и «чужие», от которых он скрыт:
Ибо Божественное, а также то, что относится к Божественному, передается на письме и прочитывается всеми, но открывается оно только тем, кто горячо кается и кто через искреннее покаяние прекрасным образом очищается… Им открываются глубины Духа, и от них изливается слово Божественной мудрости и знания… Для прочих же все это остается неизвестным и сокрытым, и никоим образом не открывается Тем, Кто отверзает ум верных для уразумения Писаний[180].
Многие, по словам Симеона, занимаются толкованием Писания, но не встречают Христа, Который говорит через него[181]. Речь идет о живом присутствии Христа в Писании: эта идея появилась еще у ранних Отцов, но у Симеона она приобрела личностную окраску. Для него присутствие Христа реально и конкретно: он чувствует и даже видит Его в процессе чтения. Вот почему так глубока его любовь к Писанию. В своих Гимнах он рассказывает о том, как он видит нетварный Божественный свет, который приходит к нему «во время чтения и изыскания слов и исследования их сочетаний»[182]. Он утверждает также, что этот Божественный свет объясняет ему Писание, увеличивает его познания и научает его тайнам[183].
Таким образом, чтение Писания становится источником мистического вдохновения. Мы можем выделить несколько ступеней, по которым, согласно Симеону, человек поднимается на высший уровень постижения Писания. На первой ступени следует читать текст Библии, обращая внимание на «слова и их сочетания», то есть, пытаясь понять буквальный смысл книги. На следующей ступени человек должен прилагать текст Писания к самому себе и исполнять написанное так, как если бы оно было обращено к нему лично. Чем точнее соблюдается Евангелие в жизни человека, тем глубже постижение им «скрытого» смысла Писания. Наконец человеку является Сам Господь и благодатью Святого Духа через приобщение к Божественному свету он становится γνωστικός, то есть получает полное понимание и совершенное знание мистического смысла Писания.
- Библейские аллюзии и цитаты у преподобного Симеона
Симеон очень часто цитирует Библию и ссылается на нее. Ученые обнаружили в опубликованных к настоящему времени трудах Симеона 1036 прямых и косвенных ссылок на Ветхий Завет и 3764 — на Новый. Первое число включает 458 ссылок на Псалтирь, 184 — на Бытие и 63 — на Исход; второе — 858 ссылок на Евангелие от Матфея, 684 — от Иоанна, 439 — от Луки, 138 — от Марка, 122 — на Первое послание апостола Иоанна и 1403 — на послания апостола Павла[184].
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что Евангелия гораздо более других частей Библии влекли к себе Симеона (2119 ссылок): это и понятно, ведь Симеон часто подчеркивал, что в Евангелиях говорит Сам Господь[185]. Христоцентризм Симеона заставляет его снова и снова обращаться к посланиям апостола Павла. Частое же обращение к писаниям апостола Иоанна Богослова объясняется их мистической глубиной: в них присутствуют любимые темы Симеона, такие как видение Бога, Бог как свет, Бог как любовь. Что касается Псалтири, для Симеона было весьма естественно цитировать ее потому, что псалмы широко использовались в богослужении, и каждый монах знал их наизусть[186]. Книга Бытия цитируется так часто потому, что Симеон отдельно комментировал историю Адама и Евы в ее связи с воплощением Господа[187].
Цитируя Библию, Симеон очень редко приводит библейские тексты с буквальной точностью; гораздо чаще он их пересказывает или перефразирует. Очевидно, это объясняется тем, что он цитирует по памяти, что обычно для древне-церковных писателей. Вот пример из 21-го Гимна:
Но один взывает и всем проповедует,
Что одного ремня или ремешка
Обуви он не может развязать (Лк. 3:16).
Другой же, когда взошел на третье небо
И после того взят был в рай… говорит:
Я слышал глаголы, которых не могу изречь (2 Кор. 12:4);
Обитает же Бог в неприступном свете (1 Тим. 6:1 б)[188].
Приведенный текст содержит три цитаты, причем ни одна из них не является дословной. Можно было бы подумать, что такая неточность объясняется необходимостью вправить библейский текст в раму определенного поэтического размера, однако это не так: тот же способ цитирования мы встречаем и в прозаических произведениях Симеона.
Только в одном случае Симеон склонен приводить буквальные цитаты — когда он подбирает отрывки из Библии для иллюстрации своих собственных мыслей: такой способ цитирования был широко распространен в аскетической литературе. Например, в 11-м Нравственном Слове он буквально цитирует три отрывка из Иезекииля (34:2-5; 34:10; 33:6), направленные против недостойных священнослужителей. Можно подумать, что столь длинные отрывки, да еще из книги, не часто читаемой в Церкви, были выписаны им из рукописи, а не процитированы по памяти; однако Симеон ошибочно приписывает их Иоилю, а не Иезекиилю: это может означать, что у него не было перед глазами манускрипта[189]. В 4-м Нравственном Слове, рассуждая о любви, Симеон приводит подборку библейских текстов на эту тему: одни тексты приведены точно, другие (и их большинство) — в пересказе. Более того, рядом с прямыми ссылками мы находим множество аллюзий, общее число которых составляет 31 на 109 строк (одна аллюзия на каждые 3-4 строки)[190]. При чтении этого отрывка у нас складывается впечатление, что Симеон снова цитирует по памяти.
Хотя Библия была для Симеона постоянным источником вдохновения, сами библейские тексты редко служили отправной точкой для развития его мысли: гораздо чаще ее приводило в движение желание Симеона выразить свои собственные идеи, а библейские образы использовались для раскрытия этих идей. Ниже приведен пример описания «мистической погони» за Богом, который прекрасно иллюстрирует данный тип цитирования:
Я отнюдь не обратился вспять,
Совершенно не обленился
И не ослабил бег…
Но всей силой моей
И изо всей мочи
Я взыскал Того, Кого не видел.
Я осматривал дороги
И заборы — не явится ли Он где-либо.
Обливаясь слезами,
Я спрашивал всех,
Когда-либо видевших Его…
Пророков, апостолов и Отцов…
Я просил их сказать мне,
Где они когда-либо видели Его…
И когда они мне сказали это,
Я побежал изо всей силы…
И я полностью увидел Его,
И Он всецело соединился со мною…[191]
Симеон здесь описывает свой собственный опыт, однако внешняя форма повествования заимствована из Песни Песней (3:2-4). Ученые считают, что на Симеона, в противоположность другим мистикам, Песнь Песней не оказала существенного влияния, поскольку он редко ссылается на эту книгу[192]. По нашему мнению, однако, все мистики, которые пытались толковать или просто использовали Песнь Песней (в том числе Ипполит Римский, Ориген, Григорий Нисский, Феодорит), тоже не столько были увлечены буквальным смыслом этой книги, сколько использовали ее текст и ее образный строй для описания собственного «неописуемого» опыта: язык же Библии служил им для того, чтобы придать этому опыту форму, согласованную с библейским откровением. Симеон чаще предпочитает непосредственное описание мистического опыта: вот почему он обычно не нуждается в том, чтобы прибегать к языку и образам Песни Песней. Вообще же Симеон цитирует библейские тексты в той мере, в какой они отражают его личный опыт[193].
- Примеры толкования библейских текстов у преподобного Симеона
Симеон не был экзегетом в том смысле, в каком мы используем это понятие, говоря об Оригене или Иоанне Златоусте. Как правило, он не занимался объяснением библейских текстов стих за стихом; имеется всего несколько библейских текстов, которые он подверг точному и последовательному толкованию. Среди них — два «ключевых» новозаветных текста: Заповеди блаженства (Мф. 5:3-12) и Пролог к Евангелию от Иоанна. Стоит рассмотреть, как Симеон объяснял эти тексты, и сравнить его толкование с классическими толкованиями александрийской и антиохийской школы для того, чтобы выяснить, что в его интерпретации принципиально ново, а что заимствовано у предшественников и является данью традиции.
Евангельским блаженствам Симеон посвящает два Огласительных Слова: второе и тридцать первое. В 31-м Слове дается последовательное, но краткое объяснение каждой Заповеди блаженства, причем все они рассматриваются как следующие одна за другой ступени лестницы духовного совершенствования[194]. Понимание блаженств как лестницы напоминает нам Григория Нисского[195], однако Симеон соединяет это понимание с идеей Марка Подвижника о Евангелии как зеркале внутренней жизни человека (см. выше). Подчеркивается практическая сторона блаженств, как у Иоанна Златоуста в его 15-й Беседе на Матфея-Евангелиста, где блаженства рассматриваются в качестве практического руководства к «истинной философии», то есть к истинно христианской жизни.
У Симеона блаженство «нищих духом» (Мф. 5:3) ассоциируется с идеалом смирения и незлобия: никакие унижения и оскорбления не должны вызывать в человеке чувство обиды[196]. Такое понимание первой заповеди блаженства является традиционным. «Я полагаю, что нищета духовная есть сознательное смирение», — говорит Григорий Нисский, ссылаясь на 2 Кор. 8:9[197]. Аналогичный подход можно видеть и у Иоанна Златоуста, и у Макария Египетского[198].
«Блаженны плачущие» (Мф. 5:4). Симеон подчеркивает, что Господь не сказал «плакавшие», но «плачущие», то есть те, кто плачет постоянно: здесь отражено традиционное для монашества учение о непрестанном плаче[199]. И Григорий Нисский, и Иоанн Златоуст настаивают на том, что здесь имеется в виду плач о грехах[200]. Согласно Григорию, основная причина этого плача состоит в «отпадении от Добра», которое есть Сам Господь и которое он сравнивает со светом: после грехопадения Адама люди стали слепы и вынуждены плакать о потере Божественного света[201]. Такое понимание чрезвычайно близко тому, что обычно говорит о причинах плача Симеон[202].
«Блаженны кроткие» (Мф. 5:5). Как можно плакать каждый день и не сделаться кротким? Гнев погашается в душе плачем, как языки пламени — водой[203]. Это сравнение заимствовано у Иоанна Лествичника: «Как вода, мало помалу возливаемая на огонь, совершенно уничтожает его, так и слеза истинного плача угашает всякое пламя раздражительности и гнева»[204]. У Максима Исповедника «отрицание похоти и гнева» есть синоним кротости[205].
«Алчущие правды» (Мф. 5:6) — это алчущие Господа, потому что Господь есть правда, говорит Симеон[206]. В этом толковании Симеон близок Григорию Нисскому, который указывает, что «под именем правды Господь предлагает слушателям Самого Себя»[207].
Обращаясь к следующей ступени, Симеон спрашивает: «Кто такие милостивые? (Мф. 5:8) Те ли это, которые дают деньги и пищу бедным? Отнюдь». Милостивые — это те, в чьей душе живет постоянное сострадание по отношению к бедным, вдовам и сиротам, и кто проливает теплые слезы о них. В качестве примера Симеон ссылается на Иова: «Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных?» (Иов 30:25)[208]. Как и Исаак Сирин, Симеон подчеркивает, что христианин должен иметь милостивое сердце[209]. Милосердие — это не отдельные акты благотворительности, это прежде всего постоянное внутреннее качество человека: быть милосердным значит быть способным плакать о других[210]. Григорий Нисский также понимал под милосердием внутреннее качество: «Милосердие есть исполненное любви сострадательное расположение к тем, кто, страдая, переносит трудности… Это [расположение] связано с печалью»[211].
Пока душа не приобретет все названные выше качеств, она не сможет быть «чистой сердцем» (Мф. 5:9).»
А душа, которая эти качества имеет, «везде созерцает Господа и соединяется с Ним»[212]. Здесь Симеон снова близок к Григорию Нисскому. Последний, рассуждая о возможности созерцания Бога, «Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:16), предлагает учение о созерцании Бога в Его энергиях[213]. Максим Исповедник также отмечает мистический аспект данной заповеди блаженства:
Поэтому Спаситель говорит: Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят — ведь Бог сокрыт в сердцах верующих в Него. Тогда они узрят Бога и сокровища, [сокрытые] в Нем, когда очистят себя через любовь и воздержание; и тем яснее узрят, чем больше очистятся[214].
Когда душа узрела Бога, между ней и Богом устанавливается мир: человек становится «миротворцем» (Мф. 5:9)[215]. В противоположность Златоусту, который говорит о мире между людьми[216], Симеон делает акцент на примирении с Богом.
Наконец, человек получает возможность «радоваться и веселиться», когда его преследуют (Мф. 5:10-12):
Ибо тот, кто явил достойное покаяние о своих прегрешениях и благодаря этому стал смиренным…удостаивается ежедневного плача и становится кротким, от всей души алчет и жаждет Солнца правды и становится милостивым и сострадательным… Он становится миротворцем и удостаивается называться сыном Божиим. Такой человек способен, будучи гоним и ударяем и оскорбляем… претерпеть все это с радостью и несказанным веселием…[217]
Беседа заканчивается описанием Господа, стоящего на верху лестницы: «Поднявшись туда, мы увидим Его, насколько это возможно человеку, и получим из Его рук Царствие Небесное»[218]. И снова вспоминаются заключительные строки «Толкования на Блаженства» Григория Нисского, где говорится, что Сам Господь есть награда тому, кто сумел подняться по лестнице Божественного восхождения[219].
Таким образом, толкование на Заповеди блаженства в 31-м Огласительном Слове Симеона демонстрируют его верность Традиции. Симеон здесь всего лишь напоминает слушателям мысли, высказанные Святыми Отцами до него, и мы не находим в его интерпретации ничего нового. Однако он возвращается к Заповедям блаженства еще раз во 2-м Огласительном Слове, где мы встречаем несколько иной вид экзегезиса. Здесь Симеон не перечисляет все Заповеди блаженства, а лишь останавливается на некоторых из них: само толкование, однако, представляется гораздо более самобытным. Главная тема этого Слова — «животворная мертвость» (ζφοποιος νεκρωσις): это, безусловно, одна из любимых тем Симеона. Человек должен «отвергнуться себя» (Мф. 16:24) и умереть для мира, только после этого он может вступить на путь добра[220]. Намереваясь говорить о Божественных заповедях, Симеон начинает с указания цели христианской жизни, которая, по его словам, заключается в том, чтобы «найти Христа и узреть Его в Его красоте и привлекательности»[221]. Он показывает, что на самом деле узреть Господа — это кульминация всех Заповедей блаженства, которые представляют собою только средство для достижения этого:
Будучи всегда увлажняема и напаяема слезами… [душа] становится кроткой и неподвижной на какой-либо гнев, желает и вожделеет, с жаждой и алчбой, научиться законам Божиим. Так она становится милостивой и сострадательной, делается благодаря всему этому чистой сердцем и удостаивается сама стать созерцательницей Господа и чисто видеть славу Его…[222]
Таким образом, начав с созерцания Господа как цели всех добродетелей, Симеон говорит только об этом и этим заканчивает. Единство данной беседы обусловлено не каким-либо внешним фактором (например, самим текстом Заповедей блаженства), но собственной концепцией Симеона: текст служит всего лишь подтверждением этой концепции. Другими словами, Симеон занят не последовательным объяснением текста, а развитием своей идеи: он останавливает внимание читателя лишь на тех словах, которые важны для него, игнорируя все прочие. Наиболее значительной оказывается для него фраза «ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8), потому что именно это представляется ему вершиной лестницы, кульминацией всего духовного пути христианина.
Подобная же субъективность в выборе и толковании библейских стихов наблюдается в 10-м Нравственном Слове, где Симеон приводит объяснение Пролога Евангелия от Иоанна. Он буквально цитирует первые пять стихов и сразу же подчеркивает слово «свет». Отец, Сын и Святой Дух — единый Свет, сияющий во тьме. Бог присутствует везде, и тьма греха и материального мира не объяла Его. С самого начала истинный Свет, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:9), присутствовал в мире, даже до того, как мир был создан, потому что мир предсуществовал в Боге[223].
В Ин. 1:12-14 Симеон сосредотачивает внимание на одном стихе: «И мы видели славу Его». Объясняя этот стих, он говорит о духовном рождении и преображении человека в святом Крещении, когда человек становится светом в Свете и познает Того, Кто дал ему жизнь, потому что он видит Его»[224]. Не только Крещение, но и Евхаристия позволяют нам видеть Господа:
А что недостаточно нам для спасения одного Крещения, но что и приобщение Плоти Иисуса и Бога и честной Крови Его для нас более свойственно и необходимо, слушай следующее: И Слово стало плотью и обитало с нами (Ин. 1:14). И что это было сказано о (Причащении), слушай Господа, говорящего теперь: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем (Ин. 6:56). Когда это произошло и мы были духовно крещены Пресвятым Духом и стали чадами Бога, и Воплощенное Слово вселилось в нас, как свет, через приобщение пречистого Тела и Крови Его, тогда увидели мы славу Его, славу как Единородного от Отца. Когда мы были духовно рождены Им и от Него, и когда Он телесно вселился в нас… — в то самое время, в тот самый момент, когда это произошло, мы увидели славу Его Божества…[225]
Таким образом, для Симеона все в Прологе Евангелия от Иоанна служит подтверждением его собственных мыслей. Различие между ним и древними комментаторами Евангелия от Иоанна очевидно. Ориген посвятил первым семи стихам первой главы Евангелия от Иоанна два тома комментариев; он говорит главным образом о Божественном свете, но не столь личностно, как Симеон. Более того, Ориген проводит разграничение между светом Отца и светом Сына, в то врем как Симеон настаивает на единстве света, исходящего от Святой Троицы[226]. Иоанн Златоуст в своих комментариях подчеркивает нравственную сторону евангельского рассказа: мистический аспект, как кажется, ему не особенно интересен[227]. Кирилл Александрийский использует каждый стих Пролога для демонстрации равенства Сына Отцу, полемизируя с современным ему несторианством[228]. Никто из упомянутых трех комментаторов, толкуя Пролог, не говорит о соединении человека с Богом, об опыте созерцания Божественного света или о Евхаристии как пути к такому созерцанию.
Та же печать новаторства лежит и на многих других толкованиях Симеона. В 1-м и 2-м Нравственных Словах он объясняет историю Адама и Евы с христологической и мариологической точек зрения. Учение о Христе как Втором Адаме и Деве Марии как Новой Еве ведет свое начало от апостола Павла, Иустина и Иринея[229]; символизм восьмого дня, когда был сотворен рай, тоже вполне традиционен[230]. Однако само толкование звучит весьма оригинально, особенно когда Симеон говорит о мистическом браке Бога с человеком:
[Архангел Гавриил], сойдя, возвещает таинство Деве и говорит: Радуйся, благодатная, Господь с Тобою (Лк. 1:28). И с этим словом сошло всецелое ипостасное, единосущное и совечное Слово Бога и Отца во чрево Девы и, наитием и содействием единосущного Его Духа, восприняло обладающую умом и душой плоть от чистых кровей Ее, и стало человеком. Таково, следовательно, невыразимое соединение и таков мистический брак Бога, и так произошел обмен между Богом и людьми.[231]
Затем, отталкиваясь от буквального смысла Л к. 8:21, Симеон объясняет, каким образом люди могут стать матерью и братьями Христа и как Господь может родиться от святых:
Как во чрево Девы вошел Бог, Слово Отца, так и в нас самих Слово, Которое мы восприняли, обретается, как семя… Итак, мы зачинаем Его не телесно, как Дева и Богородица Его зачала, но духовно, однако сущностно; и в сердцах наших мы имеем Того, Кого зачала Чистая Дева[232].
Во 2-м Нравственном Слове история прародителей тесно переплетается с толкованием Рим. 8:29-30. Симеон говорит здесь о Божественном предопределении, доказывая, что каждый человек предопределен ко спасению. И хотя Симеон рассуждает на ту же самую тему, что и в 1-м Нравственном Слове, и объясняет тот же самый текст, содержание этих двух бесед различно. Мы видим, что он находит другие пути интерпретации того же рассказа, не повторяя ни свои мысли, ни мысли других комментаторов.
Эти примеры показывают, что, интерпретируя библейские тексты, Симеон нередко следовал Традиции и не избегал использования идей своих предшественников. Однако в толковании некоторых отдельных текстов Священного Писания он находил новые слова и новые мысли: именно в этих толкованиях его индивидуальность проявилась с особенной яркостью.
- От буквы к духу
Симеон не принадлежал к какой-либо школе толкования Священного Писания и не ограничивался использованием какого-либо одного экзегетического метода; в его трудах встречаются и буквальный, и аллегорический подходы к тексту Писания. Подобно Оригену, он временами очень внимателен к букве священного текста и показывает, как внешняя форма каждого фрагмента соотносится с его содержанием. Рассмотрим несколько примеров.
Объясняя Мф. 12:36 («Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»), Симеон говорит о том, что следует понимать под «праздным словом». Основное значение греческого слова αργός (праздный) — «без дела», «не делающий», «не сделанный» (а — отрицательная частица, έργον — «дело»)[233]. Поэтому
праздное слово — …это не только бесполезное слое|: во, но и то, которое мы произносим прежде дела щ опытного познания. Ибо, если я не презрел низменную славу и не отверг ее всем сердцем… но учу других этому… то не является ли мое слово праздным, не подкрепленным делами и потому тщетным?..[234]
Соответственно человек, который комментирует Писание, но не применяет на практике Божии заповеди, будет осужден Господом как присвоивший себе достоинство учителя без Божией воли[235].
В толковании на Еф. 5:16 («Дорожа временем, потому что дни лукавы», слав. «Искупующе время, яко дние лукави суть»). Симеон рассуждает о том, что значит «искупать время», используя для этого примеры из жизни купцов. Глагол εξαγοράζω («искупать») означает «выкупать» или просто «покупать». Наша земная жизнь — время для купли-продажи. Некоторые торговцы быстро бегут на рынок, оставляя других позади, а по прибытии туда сразу начинают заключать сделки и получают прибыль. Другие, напротив, идут на рынок не спеша, тратят время в болтовне с приятелями или в застольях и пьянстве и в результате остаются ни с чем. То же самое происходит и в духовной жизни. Продаются вечные ценности и вечная жизнь: цена включает перенесение скорбей и искушений, а также умерщвление плоти. Один человек использует малейшую возможность «выкупить время» через смирение, воздержание, трезвение и другие добродетели; другой — растрачивает свою жизнь попусту и остается ни с чем. В результате первый спасен, а второй — нет[236].
В своем толковании 2 Кор. 12:3-4 («И я знаю о таком человеке… что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать») Симеон объясняет, что и для Иисуса Христа, и для апостола Павла характерно сокрытие мистического смысла под маской чувственных образов. В чем же тогда состоит, спрашивает Симеон, глубинный смысл термина ρήμα («слово», слав, «глагол»)? То ρήμα — это синоним термина о λόγος («слово»); его внешнее значение — «слово, произносимое человеческими устами и воспринимаемое человеческими ушами». Следуют примеры из Мф. 8:8; Иов 2:9; Пс. 35:3. Однако πρώτη θεωρία («исходное значение») данного термина есть Господь Иисус Христос, Который есть Слово Отца, а Святой Дух есть уста Отца. И как наше человеческое слово нельзя услышать, пока оно не будет произнесено устами, так и Слово Отца нельзя увидеть или услышать, пока оно не сообщено нам Святым Духом, когда Дух просвещает нас[237]. Следовательно,
…неизреченные глаголы, которые Божественный Павел, как он говорит, слышал, есть ни что иное, как… мистические и поистине невыразимые созерцания (θεωρίαι) через озарение Святым Духом, и сверхвеликолепные непознаваемые познания (άγνωστοι γνώσεις), то есть невидимые созерцания (αθέατοι θεωρίαι) сверхсветлой и сверхнепознаваемой славы и Божества Сына и Слова Божия.[238]
Итак, изучение буквального смысла библейских выражений приводит Симеона к их духовной интерпретации: эти выражения рассматриваются как символы мистической жизни человека. Мы помним, что Ориген и Максим Исповедник, так же как и другие древнецерковные писатели, широко пользовались подобным экзегетическим методом (см. выше). Толкование Священного Писания — это всегда путь, путешествие, αναγωγή («восхождение»). Работа над текстом — первая ступень на этом пути, и нельзя достигнуть вершины, минуя эту ступень.
- От аллегории к мистической типологии
Симеон критически относился к тем, кто «дурно аллегоризирует» (άλληγοροΰσι κακώς) Священное Писание, «относя к будущему то, что сказано о настоящем, и понимая сказанное о будущем так, как будто это уже произошло и происходит каждый день»[239]. Однако Симеон говорил это по поводу отдельных случаев чрезмерного увлечения аллегорическим методом, когда буквальный смысл Писания полностью игнорировался. Что же касается аллегорического метода вообще, то Симеон без сомнения признавал его необходимым компонентом экзегезиса. Следуя традиции, восходящей к александрийской школе, Симеон широко использовал аллегорию в своих толкованиях Писания.
В трудах Симеона мы будем различать два основных вида аллегории. К первому виду мы отнесем те аллегорические толкования библейских текстов, которые не имеют прямой связи с собственной духовной жизнью Симеона; ко второму виду — те, что связаны с его мистическим опытом. Первые более традиционны и встречаются главным образом в прозаических произведениях Симеона, особенно в его Нравственных Словах; вторые — более самобытны и, хотя их можно найти во всех произведениях Симеона, они особенно характерны для его Гимнов. Конечно, между этими двумя видами аллегории трудно провести четкую границу: Симеон часто начинает с первого, а потом переходит ко второму (но не наоборот).
Примеры первого вида — это, в частности, такие аллегорические толкования ветхозаветных образов и событий, которые объясняются влиянием александрийской традиции или прямым заимствованием из нее, в основном через церковное богослужение. Ноев Ковчег — символ Богоматери, а Ной — прообраз Христа[240]. Престарелый Исаак, который не смог узнать своего сына Иакова — символ духовной слепоты[241]. Египет символизирует «тьму страстей»[242], или мирскую жизнь вообще[243]. Однако тьма, упомянутая в 17-м псалме (слав. «И мрак под ногама Его… И положи тму закров Свой, окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных») обозначает плоть Христа[244]. Земля обетованная и сосуд с манной — прообразы Девы Марии[245]. Моисей в облаке на вершине горы Синай — символ духовного восхождения к Богу и созерцания Бога[246].
Образы Нового Завета тоже могут быть истолкованы как аллегории. Иисус, Моисей и Илия в момент Преображения Господня представляют Святую Троицу, а «три кущи», которые хотел построить Петр, символизируют тело, душу и дух (Мф. 17:4)[247]. Блудница, пришедшая ко Христу с алавастровым сосудом мира (Лк. 7:37-38), символизирует отшельника, который должен любить Иисуса и омывать Его ноги слезами покаяния[248]. Пребывание апостолов в комнате с закрытыми дверьми (Ин. 20:19) символизирует жизнь отшельника в своей келье[249]. Дочь женщины хананеянки (Мф. 15:22) — это образ души, которая нуждается в исцелении Иисусом[250]. А мытарь, оставивший свой ящик с деньгами и последовавший за Иисусом (Мф. 9:9), символизирует грешника, который отверг сребролюбие и начал духовную жизнь во Христе[251].
Порой Симеон использует более развитые и сложные образы, например, образ человеческого тела, который использовал и апостол Павел. В 4-м Нравственном Слове Симеон объясняет, как следует понимать слова «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13), приводя в качестве примера тело человека: две стопы символизируют веру и смирение; голени, колени и бедра символизируют труды воздержания; «части тела, которые нуждаются в прикрытии» обозначают непрекращающуюся молитву ума и «сладость, которую дает излияние слез»; нервы — это огонь, горящий в душе, которая стремится к созерцанию Господа (дается цитата из Пс. 25:2: «разжзи утробы моя и сердце мое»); желудок вместе с прочими внутренними органами сравнивается с «духовной мастерской, в которой трудится душа». Далее следует перечень других частей тела с указанием их символического значения; заканчивает его голова, которая символизирует любовь[252]. На наш современный вкус подобная аллегория может показаться противоестественной и малопривлекательной, но для византийского уха она звучала весьма изящно и поэтично[253].
Следующий пример показывает, как несколько уровней аллегории соединяются в одном толковании, в котором кроме того присутствует и уровень текстуальной (буквальной) интерпретации. Вернемся к 1-му Нравственному Слову Симеона. Изложив ветхозаветную типологию Христа и Девы Марии, он обращается к толкованию Мф. 22: 2-4 («Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего»). Эта притча — о Боге Отце и Боге Сыне, утверждает Симеон; Бог Отец сделал брачный пир для Сына Своего:
Но мысль о величии снисхождения [Его] приводит меня в исступление… Ибо Он приводит Ему в качестве невесты дочь того, кто восстал против Него и совершил прелюбодеяние и убийство… — Давида, сына Иессеева, который убил Урию и прелюбодействовал с его женой. Его дочь, пренепорочную, говорю, Марию, пречистую и чистую Деву, привел [Ему] как невесту[254] .
Затем, после описания Благовещения, когда произошел «мистический брак Бога» с человечеством, Симеон приглашает читателя более внимательно взглянуть на текст притчи. В греческом оригинале Евангелия царь устроил γάμοι («брачные пиры», слав, «браки») для своего сына. Почему Иисус использует множественное число вместо единственного (γάμος)? — спрашивает Симеон, заостряя внимание на буквальном смысле рассматриваемого текста. «Потому что такой брачный пир всегда случается с каждым из верных и с сынами века сего». Притча, рассказанная Иисусом, — это также аллегория того мистического опыта, посредством которого человек заново рождается в Духе. Мы уже цитировали отрывок, в котором Симеон описывает, как человек может зачать и носить Бога, подобно Деве Марии. Это рождение Бога внутри нас, по Симеону, является и нашим мистическим обновлением, когда мы соединяемся с Божественным Словом, сочетаемся с Ним[255].
Хотя в 1-м Нравственном Слове Симеон и не говорит прямо о своем собственном мистическом опыте, такой опыт несомненно подразумевается: Симеон двигается от достаточно обобщенного типа аллегории к более личностному. Рассмотрим несколько отрывков, в которых библейский текст использован Симеоном для описания его собственного мистического опыта. Согласно нашей классификации, это аллегория второго вида.
Как мы уже говорили, Симеон понимает Библию как книгу, в которой отражены взаимоотношения Бога с людьми. У каждого библейского персонажа своя связь с Богом, и ни один человек в Библии не остается нейтральным по отношению к Богу: каждый делает свой выбор за Него или против Него. В одном случае взаимоотношения с Богом строятся на абсолютном доверии и послушании, как у Авраама; в другом — они представляют собой цепь грехопадений и раскаяний, заблуждений и возвращений, как у Давида; иногда же они заканчиваются полным отпадением от Бога, как у Иуды. Путь к Богу никогда и ни для кого не бывает легким; он может включать в себя многочисленные драматические повороты, сопряженные с глубокими страданиями, но в то же время он может позволить человеку достичь истинной благодати будущего века и узреть Господа еще в земной жизни, как это было дано святым подвижникам.
Далее Симеон показывает, что его собственный мистический опыт соответствует опыту других: в подтверждение этого он приводит библейские параллели. Удивительный пример подобного толкования мы находим в 19-м Гимне, где вся Священная История рассматривается Симеоном как прототип его собственного опыта созерцания Бога в состоянии экстаза:
Кто перешел тот темный воздух,
Который Давид называет стеной (Пс. 17:9),
А Отцы назвали «житейским морем»,[256]
Тот вступил в пристань,
В которой он обретает всякое благо.
Ибо там рай, там древо жизни,
Там сладкий хлеб, там Божественное питие,
Там неисчерпаемое богатство дарований.
Там купина горит, не сгорая,
И обувь тотчас с ног моих спадает.
Там расступается море, и я прохожу один,
И вижу врагов, потопляемых в водах.
Там созерцаю я древо, в мое сердце
Бросаемое, и все горькое претворяется [в сладкое].
Там обрел я скалу, источающую мед…
Там ел я манну — хлеб ангельский,
И не возжелал больше ничего человеческого.
Там увидел я сухой жезл Ааронов процветшим
И изумился чудесам Божиим[257].
Чтобы осознать значение данного отрывка, вспомним, что каждый из упомянутых персонажей имеет долгую историю истолкования в патристической и литургической традициях. Например, «божественное питие», то есть вода, изведенная Моисеем из скалы (Числ. 20:8-11), рассматривается как прообраз благодати Христа Спасителя[258]. Горящий куст (Исх. 3:2-4) символизирует Пресвятую Деву, которая приняла во чреве Бога и родила «без нетления»[259]. Переход через Чермное море (Исх. 14:21-28) — это прообраз Пасхи, перехода от смерти к жизни[260]; нередко этот эпизод толкуется и как прообраз Крещения (ср. 1 Кор. 10:2)[261]. Дерево, с помощью которого Моисей превратил горькую воду Мерры в сладкую (Исх. 15:23-25), является символом Креста[262]. «Мед из камня» (Втор. 32:13) иногда считается символом Богородицы[263]. Манна, которую Господь послал Израилю (Втор. 16:4; 14-16), символизирует Евхаристию, как это показал Сам Христос (Ин. 6:31-51), а также Богородицу (см. выше)[264]. Расцветший жезл Аарона (Числ. 17:2-8) рассматривается как прообраз Богородицы[265], или, по другому толкованию, как прообраз Креста[266].
Весь этот широкий спектр значений, несомненно, присутствует в памяти Симеона, когда он перечисляет библейские образы, однако в первую очередь он видит в этих образах себя и свой опыт. Для него речь идет не просто о событиях из истории Израиля, которые прообразуют тайны Нового Завета, но о фактах его собственной мистической биографии. Обращаясь к Новому Завету, Симеон и там узнает свою собственную историю в описываемых событиях, будь то Благовещение, исцеление слепого или воскрешение Лазаря:
Там услышала [душа моя]: «Радуйся, благодатная,
Ибо Господь с тобою и в тебе во веки!» (Лк. 1:28).
Там услышал я: «Омойся в купели слез»;
Сделав это, я уверовал и внезапно прозрел (Ин. 9:7).
Там я похоронил себя во гробе через совершенное смирение,
Но Христос пришел с безмерной милостью,
Отвалил от него тяжелый камень зол моих
И сказал: «Выходи оттуда, словно из гроба мира сего»
(Ин. 11:38-44)[267]
Мы видим, что для Симеона Писание не является объектом толкования; скорее, он сам становится субъектом повествования: он воспринимает библейский рассказ не извне, как комментатор, но изнутри, как если бы он являлся одним из его героев. Мистическое восприятие новозаветной истории приводит к созерцанию Христа в Его страданиях, смерти и воскресении, а также к переходу в будущую жизнь:
Там я увидел, как бесстрастно пострадал мой Бог[268],
И как Он стал мертвым, будучи бессмертным,
И воскрес из гроба, не разрушив печатей.
Там узрел я будущую жизнь и нетление,
Которое Христос дарует ищущим Его,
И обрел Царство Небесное, сущее внутри меня,
Которое есть Отец, Сын и Дух[269]
Иногда у Симеона встречаются весьма необычные мистические толкования. В 20-м Огласительном Слове Иисус Христос рассматривается как прообраз истинного духовного отца: имеется в виду Симеон Студит. Если ты видишь, что духовный отец ест и пьет с мытарями и грешниками (ср. Мф. 9:11), не думай о страстном и человеческом, говорит Симеон. Не дерзай просить твоего духовного отца, чтобы он позволил тебе сесть по правую его руку или по левую (ср. Мк. 10:37). Если он говорит тебе и другим: «Один из вас предаст меня», спроси его со слезами: «Не я ли, Господи?» (ср. Мф. 26:21-22). Но возлежать на его груди (ср. Ин. 13:23) для тебя не полезно. Когда он будет распят, умри с ним, если сможешь[270]. Мы будем способны по достоинству оценить значение этого толкования только в том случае, если примем во внимание ту исключительно важную роль, которую сыграл Симеон Студит в духовной биографии Симеона Нового Богослова.
В Священном Писании Симеона особенно привлекают те персонажи, которые сподобились увидеть Господа. По этой причине он обращается к жизни апостола Павла, который встретил Христа на пути в Дамаск (Деян. 9:3-5) и был восхищен на третье небо (2 Кор. 12:2). Упоминает Симеон и о том, как Стефан видел Христа (Деян. 7:56). Но для него важнее то, что подобные вещи могут произойти и с ним самим, в его собственной жизни:
Что это за новое чудо, которое и ныне происходит?
Бог и ныне желает являться грешникам —
Тот, Кто некогда взошел горе и воссел на Отчем престоле
На небесах, и пребывает сокровенным.
Ибо он скрылся от очей Божественных апостолов
И после этого, как мы слышали, один лишь Стефан
Видел разверзающиеся небеса и тогда сказал:
«Вижу Сына, стоящего одесную славы Отца»…
Но ныне — что означает это странное событие,
Происходящее во мне?..
Я обрел Того Самого, Кого видел издали,
Кого Стефан увидел в разверзающихся небесах
И Кого потом Павел увидел и ослеп…[271]
Если в данном отрывке Симеон рассматривает свой собственный опыт как равнозначный опыту библейских персонажей, то в других случаях он говорит о нем как о более значительном. Так в 51-м Гимне Симеон перечисляет персонажей Ветхого и Нового Заветов и утверждает, что его, Симеона, собственный опыт несравненно более удивителен. Моисей видел Господа в облаке на горе Синай всего один раз, а Симеон постоянно видит Его как несказанный свет. Апостол Павел был восхищен на третье небо один раз за четырнадцать лет до того, как написал об этом, а Симеон удостаивался подобного созерцания многократно. Стефан увидел Христа перед смертью, а Симеон видел Его постоянно от юности на протяжении всей жизни. Енох и Илия были вознесены на небо и избежали смерти, а Симеон уже «преодолел смерть»[272].
События Ветхого Завета прообразуют реальности Нового Завета, однако вся Библия — это только тень того, что может случиться с человеком в его мистическом опыте:
Илия был взят на огненной колеснице,
И прежде него Енох…
Но что это в сравнении с тем, что происходит в нас?
Как вообще может сравниться тень с истиной?..
Итак, что такое огненная колесница, взявшая Илию,
Что такое преложение Еноха в сравнении с этим?
Думаю: как море, разделенное некогда жезлом,
И манна, сошедшая с небес, были только образом
И символами истины:
Море — Крещения, а манна — Спасителя;
Точно так же и то суть только символы и образ этого,
Имеющего несравненное превосходство и славу[273].
Манна кончилась, и люди, которые питались ею, умерли, а нас Плоть Спасителя делает бессмертными, продолжает Симеон. Израилю пришлось сорок лет блуждать в пустыне, а нас Господь приводит от смерти к жизни и от земли к небесам сразу, как только мы приняли Святое Крещение и причастились Его Тела и Крови. «Господь сделал меня новым небом и вселился в меня: никто из древних святых не удостоился ничего подобного», — восклицает Симеон[274].
Насколько соответствуют святоотеческой Традиции эти настойчивые утверждения Симеона о превосходстве его личного мистического опыта над опытом библейских персонажей? Идея о том, что Библия прообразует мистический опыт человека, не нова: мы уже отмечали ее у Оригена и Максима Исповедника (можно, безусловно, добавить и другие имена). То, что Писание следует постигать через опыт, тоже было общим местом, особенно в монашеской литературе. Мы даже можем вспомнить по агиографическим источникам о людях, которые начали исполнять заповеди Божии до того, как прочитали Писание, или вовсе не читая его. Мария Египетская, житие которой было весьма популярно в Византии[275], даже не читала Евангелие до того, как отправилась в пустыню; когда же она достигла состояния духовного совершенства, она смогла цитировать Библию наизусть, не зная текста: аскетические подвиги полностью заменили ей чтение Писания[276]. Павел Препростой, придя в монастырь, заучил в качестве руководства к действию три первых стиха из 1-го псалма, после чего отправился в пустыню и провел много лет в строгом воздержании и постоянной молитве «день и ночь»: этому человеку трех стихов оказалось достаточно для «пути ко спасению и науки благочестия» (ad viam salutis et scientiam pietatis)[277].
Симеон фактически развивает те же самые идеи, подчеркивая, что опыт причастия Христу во Святом Духе выше любого формального отражения этого опыта, в том числе и в Писании. В конце концов Писание — это лишь средство, помогающее жить с Богом и в Боге:
…Кто сознательно обрел в себе Бога, дающего людям знание, тот прочитал все Священное Писание и собрал весь плод пользы от чтения: он более не будет нуждаться в чтении книг. Почему так? Потому что беседующий с Тем, Кто вдохновил авторов Божественных Писаний, посвящаемый Им в сокровенные и несказанные таинства, сам станет для других богодухновенной книгой, содержащей новые и ветхие тайны, написанные в ней перстом Божиим…[278]
В этих словах Симеона не отрицается необходимость чтения Священного Писания; скорее здесь мы видим особенно яркое выражение традиционной восточно-христианской идеи о том, что следует подниматься от буквы Писания к его внутреннему смыслу, а от последнего — к Тому, Кто стоит за словами Библии.
Обобщая основные принципы подхода Симеона к Библии, мы можем сказать, что он понимает Писание как часть великой Традиции, включенным в которую ощущает и себя самого. В своих толкованиях библейских текстов он не порывает с традиционным пониманием, но основывается на толкованиях Святых Отцов, используя как буквальный, так и аллегорический методы. Тем не менее, рассматривая Библию как историю взаимоотношений между Богом и людьми, Симеон постоянно ищет параллели между своим духовным опытом и опытом библейских героев. Это приводит к тому, что он дает глубоко личные трактовки библейских событий, придавая им мистический смысл. Последний тип толкования представляется нам наиболее оригинальным аспектом библейского экзегезиса преподобного Симеона Нового Богослова.